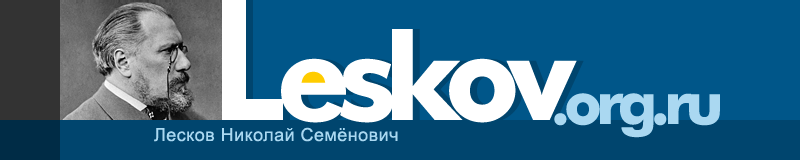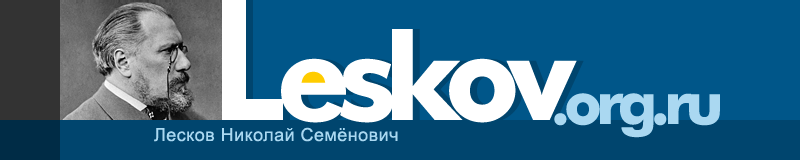|
Забытый роман. О романе «На ножах».
«На ножах» текст и художественный фильм.
Роман Н. С. Лескова «На ножах» (1870—1871) долгое время был прочно забыт. Еще при жизни писателя критикой и литературной общественностью ему была создана репутация «отомщевательного» антинигилистического сочинения. По убеждению современников, публикация романа в катковском «Русском вестнике» создала между писателем и так называемыми «прогрессистами» из лагеря демократов непроходимую пропасть и окончательно закрепила за Лесковым звание «консерватора». Утвердившись в этой мысли, послереволюционное литературоведение скрыло роман от советского читателя за семью печатями. Оберегая его политическое целомудрие, литературоведческое и издательское начальство исключило всякую возможность переиздания романа, а тем самым и более справедливую и глубокую современную его оценку.
Роман не вошел в собрание сочинений Лескова, изданное в одиннадцати томах в пятидесятые годы (М.; Л.: Художественная литература, 1954—1958), не появился отдельной книгой в период «оттепели», хотя бы в доказательство того, как необъективен Лесков в романе по отношению к своим идейным оппонентам. Ведь можно было сопроводить текст необходимыми по этому случаю объяснениями историков литературы и общественного движения в России.
В литературе о Лескове «На ножах» упоминали скороговоркой и всегда в наборе с другими якобы антинигилистическими его романами: «Некуда» (1864) и «Обойденные» (1865). Считалось, что в этих произведениях писателя герои — шаржированно изображенные деятели революционного движения шестидесятых годов, а отдельные эпизоды полемически заострены против романа Н. Г. Чернышевского «Что делать?».
В своих обобщающих оценках современные историки литературы, в особенности академические, оказались еще категоричнее и безжалостнее по отношению к роману, чем современники Лескова. В романе «На ножах» ими были обнаружены все характерные черты антинигилистического романа шестидесятых — семидесятых годов девятнадцатого столетия. Помимо развенчания нигилизма и полемики с романом Н. Г. Чернышевского «Что делать?», что, как казалось отдельным исследователям, снижало авторитет вождя революционных демократов в глазах молодого поколения, в романе «На ножах» также было обнаружено опошление идей женской эмансипации, крестьянского бунта, унижение национального достоинства отдельных персонажей. Автор статьи, посвященной антинигилистическому роману в «Истории русской литературы», увидел в романе «На ножах» даже то, что, можно сказать со всей определенностью, в нем отсутствует — антисемитскую направленность. С какой же предвзятостью надо прочесть текст романа, чтобы найти в нем «яростный антисемитизм» на том только основании, что Лесков описывает «подлые проделки журналиста-ростовщика Кишенского, промышляющего в пореформенное время куплей-продажей закабаленных им живых душ». Тем более что Тихон Кишенский — один из второстепенных героев романа — действует на периферии его сюжета, а сопоставление Кишенского с гоголевским Чичиковым и вовсе лишено всякого смысла. У Лескова после разрыва с революционным движением Кишенский зарабатывает на жизнь совсем другим ремеслом: идет «в полицейскую службу», содержит кассу ссуд и «строчит в трех разных газетах трех противоположных направлений».
По всем этим причинам роман «На ножах» как бы выпадал из творческой биографии его автора, что, конечно, препятствовало осмыслению лесковского литературного наследия в целом. По сути дела, положение оставалось таким же, как в довоенные годы, когда Андрей Лесков, опасаясь, что инерционный подход к полемическим романам перечеркнет память и литературное значение отца, озабоченно писал Горькому: «...старые оценки «Некуда» и «На ножах» не дают критикам 1930-х годов видеть Лескова последних двадцати лет его работы!».
Плотная завеса над романом была приподнята лишь в конце пятидесятых. Это было заслугой Б. М. Другова — автора талантливого, но в силу исторических условий ограниченного очерка о творчестве Лескова. Полностью еще не доверяя возможности нетенденциозной оценки романа, Другов однозначно связал его замысел с сотрудничеством писателя в «Русском вестнике». Опуская подробности взаимоотношений М. Н. Каткова и Лескова (общеизвестно, что они были вынужденные, из-за «нуждательства и безработицы»), Другов писал: «Роман «На ножах» (1870—1871) был в полном смысле слова произведением, выполненным по рецептам Каткова». В свете уничтожающих ленинских оценок Каткова и его изданий это означало, что роман был отнесен Друговым к реакционно-охранительной беллетристике. Считалось, что она изображала «благородных предводителей дворянства, благодушных и довольных мужичков, недовольных извергов, негодяев и чудовищ-революционеров». В своем сюжете роман «На ножах» полностью не отвечал этой формуле. Но сюжетные перипетии в данном случае никого и не интересовали. Чтобы еще более связать Лескова с идеей охранительства, Другов предваряет анализ «На ножах» клеветнической цитатой из воспоминаний писателя И. Ясинского, которые известны как источник недостоверный по изложению фактов и субъективный в их оценке. «Когда я первый раз вошел в литературный кружок Василия Степановича Курочкина, — пишет Ясинский, — в 1870 году, имя Лескова... было у всех на языке. О нем говорили с презрением и отвращением и даже уверяли, что он служит агентом в Третьем отделении».
Попробуем обратиться к фактам, то есть к истории создания и печатания «На ножах».
Момент его замысла никак не зафиксирован. По свидетельству сына и биографа писателя, Лесков никогда ни с кем не говорил об этом, по его признанию, «сокрушившем» его романе. Есть, однако, мнение, что замысел его не связан ни с общим антинигилистическим угаром, распространившимся в семидесятые годы в русском обществе, ни с личными антипатиями писателя.
У некоторых исследователей возникла здравая мысль, что в романе отразилось «свойственное Лескову горячее желание непосредственно и действенно откликнуться на зов современности, запечатлеть новые типы, новые умонастроения, новые отношения, складывающиеся в это время в русской жизни...». Это справедливо и, может быть, более точно, чем утверждение А. М. Горького, что «На ножах» — «книга злого отчаяния, книга личной мести, где все герои шантажисты, воры, убийцы...» Инвективно-сатирическая тенденция, конечно, отчетливо обозначена в романе, но круг его героев все же намного шире очерченного Горьким. Не надо обладать особой зоркостью, чтобы убедиться в этом. Если возможно, надо выбрать угол зрения, не ограниченный требованиями времени и идеологической ситуацией в стране. Более того, если мы обратимся к тексту, то увидим, что инвектива в лесковском романе направлена против тех нигилистов (Горданов и его компания), которые «отменили грубый нигилизм, заявленный некогда Базаровым», и провозгласили «негилизм», то есть отступили от принципов революционно-демократического учения в угоду своим маленьким житейским целям. Лесков разоблачает не революционеров, а «накипь», что сопровождала революционное движение, а в семидесятые годы отошла от него, опустившись на самое дно русской жизни. Во всяком случае, история падения Горданова, Висленева, Глафиры, некогда исповедовавших высокие революционные идеалы, а затем объединившихся, чтобы завладеть богатым наследством помещика Бодростина, обычная для нашей страны, по меткому наблюдению Горького, «обильной «рыцарями на час» и позорно бедной героями на всю жизнь».
Сам Лесков, смущенный тем, что многие современники не поняли его и трактовали замысел романа слишком прямолинейно, был вынужден объяснить его в письме А. С. Суворину таким образом: «Я не думаю, что мошенничество, «непосредственно вытекло из нигилизма», и этого нет и не будет в моем романе. Я думаю и убежден, что мошенничество примкнуло к нигилизму, и именно в той самой мере, как оно примыкало и примыкает «к идеализму, к богословию» и к патриотизму... Я имею в виду одно: преследование поганой страсти приставать к направлениям, не имея их в душе своей, и паскудить все, к чему начнется это приставание. Нигилизм оказался в этом случае удобным в той же мере, как и «идеализм», как и «богословие»...». Среди героев романа, как только их не заметил Горький, есть и другие — честнейшие, любимые им «маленькие великие люди», которые по праву могут занять место в лесковском иконостасе праведников. Это беззаветно преданные добру деревенский священник Евангел, генеральша Синтянина, чета Форовых, наконец, Андрей Подозеров, устами которого Лесков объясняет смысл названия романа. По замыслу Лескова, Андрей Подозеров является олицетворением и совестью будущей России, страны, где отшумят «ножевые» страсти и наступит период плодотворной созидательной работы.
Надо признать, что этот лесковский образ до некоторой степени автобиографичен и дает нам представление об общественной позиции автора романа, в душе которого «странно соединились уверенность и сомнение, идеализм и скептицизм». «Не могу тебе выразить, — пишет Подозеров другу, и это звучит как автопризнание Лескова, — как это нестерпимо для меня, что в наше время, — хочешь ты или не хочешь, — непременно должен быть политиком, к чему я, например, не имею ни малейшего влечения. Я бы не хотел ничего иного, как только делать свое дело с неизменною всегдашнею и тебе, может быть, памятною моею уверенностью, что, делая свое дело честно, исполняя ближайший долг свой благородно, человек самым наилучшим органическим образом служит наилучшим интересам своей страны, но у нас в эту пору повсюду стало не так; у нас теперь думают, что прежде всего надо стать с кем-нибудь на ножи, а дело уже потом; дело — это вещь второстепенная. По-моему, это ужасная гадость, и я этого сколько мог тщательно избегал и, представь ты, нашел себе через «эту подлость» массу недоброжелателей, приписывающих мне всяческие дурные побуждения, беспрестанно ошибавшихся в своих заключениях, досадовавших на это и наконец окончательно на меня разгневавшихся за то, что не могут подвести меня под свои таблицы, не могут сказать: что я такое и что за планы крою я в коварной душе моей?..»
Так сказал бы и Лесков в ответ на пересуды тех критиков, которые непременно хотели зачислить его в катковский лагерь консерваторов.
Трезво относясь как к охранителям существующего строя, так и к разного рода авантюрным «желчевикам» и «нетерпеливцам», Лесков пытался отстоять независимость своей общественной позиции. Поэтому символическое название романа в другой сюжетной ситуации обретает и иной смысл.
Когда любимый герой Лескова Подозеров, после столкновения с «негилистами», предстанет перед читателями нравственно истощенным и физически разбитым, его близкий друг и поверенный в делах Форов воскликнет: «Нет, теперь нет союзов, а все на ножах». И это восклицание как нельзя лучше пояснит политическое и экономическое кризисное состояние России, безрезультатно пережившей революционную ситуацию.
Создавался роман «На ножах» в беспокойные и беспорядочные дни жизни Лескова. Не случайно в своем самом последнем предсмертном интервью автор скажет о нем: «По-моему, это есть самое безалаберное из моих слабых произведений». Связанный обязательствами перед журналом, Лесков «гнал» роман так, что за ним не успевал переписчик. По приятельству роман перебелила Е. С. Иванова, участница дружеского кружка, сложившегося вокруг семейства Лескова в эти годы.
Следует сразу сказать, что идейного единства с редакцией «Русского вестника» и М. Н. Катковым у Лескова не было. Роман подвергся в рукописи грубой правке. Редакционные мытарства отражают письма к Н. А. Любимову, «правой руке» М. Н. Каткова, от которого больше всего и пострадал роман. «... Никак не ожидал и не мог ожидать выхода своей работы в таком оконфуженном виде... — с тревогой писал Лесков редактору. — Убийственнее всего на меня действует то, что я не могу взять себе в толк причин произведенных в моем романе совсем уже не редакторских урезок и вредных для него изменений. Так: вылущены речи, положенные мною в основу развития характеров и задач (например, заботы Форовой привести мужа к Богу); жестоко нивелирована типичность языка, замененная словами банального свойства <...>; ослаблена рисовка лиц <...> и даже допущен nonsens (разговор о законе, имевший смысл лишь после разговора о разводах — что выброшено совсем во вред)...
Крайне расстроенный и огорченный, я не нахожу даже слов, как уместнее выразить Вам мою просьбу помилосердствовать надо мною и не отнимать у меня средства окончить работу с уверенностью, что Вы не отвергаете во мне известной доли смысла и сознания для того, чтобы соображать материал моей постройки...».
Несмотря на заинтересованность в гонораре, Лесков вполне определенно дает далее понять редактору, что он, при всем «тяготении к уважаемой редакции «Русского вестника», если та не ослабит свой пыл, «должен отказать себе в удовольствии служить ей... должно быть мало пригодными силами».
Только преднамеренно исказив факты, можно назвать роман произведением, «выполненным по рецептам Каткова». Отношения с редакцией у Лескова складывались при обоюдном непонимании и так его нервировали, что даже о неудачно написанном к нему письме третьего лица он с язвительностью говорит: «Письмо Ваше страдает неполнотой, точно Любимов «приготовил его к печати». Работу с Любимовым Лесков называет «любимовские пытки», а самого его «ужасный человек, Аттила, бич литературы».
Обращаясь к П. К. Щебальскому (1810—1886), историку и критику, близкому к редакции «Русского вестника», Лесков в отчаянии просит защитить его от Любимова: «Помогите, Бога ради, если чем можете подействовать на сего ужасного оператора».
Не понимая целей редакторской правки, Лесков в том же письме сообщает о Любимове: «...он черкает не рассуждения, не длинноты, а самую суть фабулы!! Он обворовал Ларису ни за что, ни про что, и именно в ноябрьской книжке, в разговоре Форовой с Синтяниною у реки. Раз показано было, что «Лара роковая и скрывает в себе нечто, а может быть и ничто», — далее: старик генерал о ней говорит, что «ее, как калмыкскую лошадь, один калмык переупрямит», — это все нужные, необходимые ритурнели, и их нет, и зачем их нет, это один черт знает! И добро бы это были длинноты, — нет, это говорилось в кратчайших словах. То есть просто черт его знает чего он хочет и из чего, из какого шиша я теперь сделаю эту Ларису? Отчаяние полное и бесконечное! я готов бросить роман недописанным, потому что все равно боюсь, что сей профессор с его резвыми руками совсем меня спутает, и романа станет нельзя свести с концом».
П. К. Щебальскому и другу литературной юности А. С. Суворину, которые были в курсе всех проблем, связанных с публикацией романа, Лесков жалуется, что Любимов не дал ему наделить своих героев отдельными соответствующими авторскому замыслу чертами. Таким образом, кроме Форовой и Ларисы, пострадали почти все герои романа: генеральша Синтянина («Любимов мне не позволил «живописать мою видящую под землей генеральшу»), Горданов («Горданову не позволяют быть во фраке, когда он осуждает неуклюжий сак Базарова») 9; майор Форов — по замыслу Лескова «непосредственное продолжение нигилизма» («Форов — лицо, впрочем, наиболее потерпевшее от уступок, какие я должен был в нем сделать. Они простираются очень, очень далеко, и вширь, и вдоль, и вглубь...»). Говоря о совместной работе с редактором, Лесков писал: «Он убил меня, этот «милый сердцем невежда», которому не понятно ни одно живое человеческое отношение».
В разгар этой переписки Щебальский, видимо, желая смягчить лесковские столкновения с редакцией «Русского вестника», с намеком на авторскую пристрастность называет писателя «чадолюбивым отцом своих творений» . В ответном письме Лесков выражает неудовлетворенность своим сотрудничеством с катковской редакцией тем, что никак не может принять этих слов в свой адрес, так как «я их (свои творения. — А. Ш. ), — пишет Лесков, — чуть ли не как щенят закидываю (чего и не поставлю себе в похвалу, а наипаче в покор и порицание)».
Роман дописывался через силу, и это в период, который в творческом отношении можно считать интенсивным: параллельно завершались лучшие произведения — «Соборяне» (1866—1872), «Смех и горе» (1871), Лесков уже сложился как писатель.
Из совместной работы с редакцией «Русского вестника», однако, не выходило ничего «...кроме досады, охлаждения энергии, раздражения, упадка сил творчества и, наконец, фактических нелепостей и несообразностей...». И Лесков, подводя некоторый итог, признается П. К. Щебальскому в письме от 16 апреля 1871 г.: «... я дописываю роман, комкая все как попало, лишь бы исполнить программу».
Наконец роман, растянувшийся на страницах «Русского вестника» почти на два года, получает сюжетное завершение. Автор находит средства преодолеть уголовную фабулу (убийство ради богатого наследства), изыскав для этого какие-то невероятно сложные романические приемы. Чтобы поставить точку, более для себя, чем для читателя, он пишет: «Так завершилось дело, на сборы к которому потрачено столько времени и столько подходов, вызвавшихся взаимным друг к другу недоверием всех и каждого». Как бы ощущая искусственность сконструированных им обстоятельств и описанных страстей, Лесков добавляет: «Актеры этой драмы в конце ее сами увидали себя детьми, которые, изготовляя бумажных солдатиков, все собираются произвесть им генеральное сражение и не замечают, как время уходит и зовет их прочь от этих игрушек, безвестно где-то погибающих в черной яме».
Эпилог романа «На ножах» поражает читателя прагматическим отношением автора к судьбам героев. Те из них, чей жизненный путь был не ясен Лескову, уходят с романной сцены, скоропостижно умирая. Кончает с собой Лариса в эффектно обставленных и неправдоподобных для обыкновенного самоубийства обстоятельствах. В следственной камере, отравленный, умирает Павел Горданов, один из главных организаторов убийства богатого Бодростина. Их участь разделили «мироносица» Катерина Астафьевна Форова, так и не сумевшая спасти свою племянницу Ларису от сокрушившей ее привязанности к ней Горданова, приемная дочь генеральши Синтяниной, глухонемая Вера, своими вещими предсказаниями намечавшая повороты в ходе основной интриги и отношениях героев. Те, кто своим поведением в начале романа не соответствует роли, предназначенной для них автором, в его конце нравственно перерождаются.
Последние главы романа свидетельствуют о неожиданной для окружающих эволюции характера генерала Синтянина.
В начале романа генерал представлен как человек для женщин губернского города особенно антипатичный. Он трактовал женщин несовершеннолетними, требующими всегдашней опеки, и цинически говорил, что «любит видеть, как женщина плачет». Особый ужас окружающим внушали «леденящие глаза» генерала и таинственная жизнь на женской половине его дома после женитьбы генерала на юной дочери своей экономки. В эпилоге это сентиментальный, благообразный старик, что ни слово вспоминающий Бога и сожалеющий о тех, кого мучил. Операция, которую он сам себе назначает, чтобы вынуть пулю, сидевшую в нем всю жизнь, наводит на мысль, что этот человек мечтает свести счеты с жизнью. «Подвожу итог-с и рассуждаю об остатке: в остатке нуль и отпускаться будет нечем у сатаны», — говорит он Подозерову, выдавая свои подлинные намерения. В оставшиеся дни жизни он все организует так, что у своего гроба соединяет двух давно любящих друг друга и тщательно скрывающих эту любовь людей — свою жену и Андрея Подозерова.
В эпилоге романа в полной мере раскрывается значение образа Висленева. В его странной судьбе слышны отголоски нечаевского дела , вызвавшего в семидесятые годы в литературе оживление антинигилистической темы. Так называемая «фабула нечаевского дела», которое стало широко известно общественности в 1871-м, когда в Петербурге шел процесс над большой группой революционеров, разошлась тогда по сюжетам многих произведений массовой литературы, в том числе и самого низкого, бульварного пошиба. Этот факт литературной жизни был иронически осмыслен в статье Салтыкова-Щедрина «Так называемое нечаевское дело и русская журналистика». Салтыков со свойственной ему язвительностью писал: «Главный результат процесса, по нашему мнению, выразился в том, что он дал случай нашей литературе высказать чувства, которые одушевляют ее». Есть мнение, что и Лесков в силу своего публицистического темперамента и особенностей таланта, как в романе «Некуда» на создание Знаменской коммуны, откликается на эти события русской общественной жизни. Правда, «фабула нечаевского дела» оказывается в романе трансформированной «почти до неузнаваемости», так как обстоятельства убийства Бодростина мало чем напоминают расправу над студентом Ивановым. Тем не менее взаимоотношения Горданова и Висленева, который оказывается в психологической и экономической зависимости от первого, Лесков строит, вероятно, по подобию отношений, существовавших в нечаевской группе. До некоторой степени как намеки на нечаевский процесс воспринимаются и злые отчаянные пророчества Висленева, в представлении Лескова, вероятно, связанные с революционными идеями нечаевцев, а, может быть, с тем, как они интерпретировались в прессе. Во всяком случае, герой Лескова на допросах по следствию об убийстве Бодростина выставляет себя «предтечей других сильнейших и грозных новаторов, которые, воспитываясь на ножах, скоро придут с ножами же водворять свою новую вселенскую правду». Странно, но приходится признать, что в известном смысле пророчества, вложенные Лесковым в уста полусумасшедшего героя, имели историческую перспективу.
Несмотря на «программную» заданность отдельных сюжетных ходов, художественную незавершенность отдельных образов и подчас наивное стремление автора «освежить» антинигилистическую тему эпизодами с мистическими предсказаниями, роковыми встречами и другими беллетристическими приемами, с самого начала его публикации роман был популярен и даже соперничал в этом с безупречными образцами лесковской прозы. Лесков писал из Петербурга 19 декабря 1870 г. П. К. Щебальскому: «Здесь романом заинтересованы очень сильно...» И позднее, в январе 1871 г.: «По отзывам «Летучей библиотеки» роман мой читается нарасхват и с азартом, даже превосходящим мои ожидания».
В восприятии современников роман распадался на две части: нигилистический Петербург и провинцию, конкретно выписанный быт которой затмевал собой мрачные петербургские сцены. Многие, видимо, советовали автору вообще свернуть события, по авторскому замыслу, происходящие в Петербурге. Во всяком случае, Лесков пишет П. К. Щебальскому: «Я вас послушаю и не буду выходить из провинции, насколько можно...». Осуществляя этот план, Лесков все свои симпатии переносит на части романа, действие которых происходит в провинции. Об одной из них, отсылая ее в редакцию, он пишет любовно: «Я посылаю кусок романа «На ножах». Кусок живой и горячий, как парная кровь...».
Даже сдержанный по отношению к роману «На ножах» Б. М. Другов был вынужден отметить «некоторые удачные бытовые сцены (история крепостного раба Сида, рассказ Водопьянова, главы о крестьянах)». Ф. М. Достоевский, восхищаясь Евангелом и размышляя о творческом опыте Лескова в этом роде, подметил: «А какой мастер он рисовать наших попиков!»
Однако и петербургские страницы романа не были одинаково бездарны. На них был создан маленький лесковский шедевр — Ванскок, характер, отмеченный необыкновенной правдивостью. Достоевский, в целом резко критически оценивая «На ножах», именно за искажение образов нигилистов, был вынужден признать: «Какова Ванскок! Ничего и никогда у Гоголя не было типичнее и вернее. Ведь я эту Ванскок видел, слышал сам, ведь я точно осязал ее. Удивительнейшее лицо! Если вымрет нигилизм начала шестидесятых годов — то эта фигура останется на вековечную память. Это гениально!»
Десятилетия спустя, уже в двадцатые годы нашего столетия, когда Россия пережила разрушительную революционную бурю и тысячи Ванскок погибли сначала на царской каторге, а затем в неразберихе гражданской войны, Горький вновь вспомнил героиню
Лескова — «Анну Скокову, девицу-революционерку, смешную внешне». «Суматошная, она говорит скороговоркой и, знакомясь, называет себя Ванскок», — пишет Горький. По его мнению, Ванскок — «тип, мастерски выхваченный из жизни рукою художника, изображенный удивительно искусно, жизненный до обмана, — таких Ванскок русское революционное движение создавало десятками. Существо недалекое, точнее глуповатое. Ванскок неутомима, исполнена самозабвения, готова сделать все, что ее заставят люди, которым она — сама святая — свято верит. Если ее пошлют убить — она убьет, но она же, сидя в тюрьме, будет любовно чинить рубаху злейшего партийного врага; она может, не насилуя себя, перевязать рану человеку, который накануне избил ее, может месяцами задыхаться в подвале, работая в тайной типографии, прятать на груди у себя заряженные бомбы и капсюли гремучей ртути, может улыбаться, когда ее мучают, даже способна пожалеть мучителей за бесполезность их труда над телом ее и в любую минуту готова умереть «за други своя».
Мысленно продолжая жизнь Ванскок за рамками романа и наделяя ее образ жизненным опытом, приобретенным ее последователями, русскими революционерками, Горький высоко оценивает обрисованный Лесковым тип личности: «Этот человек — орудие, но это и святой человек, — утверждает он, — смешной, — но прекрасный, точно добрая фея сказки, человек, воспламененный неугасимой, трепетной любовью к людям — священной любовью, хотя она и напоминает слепую привязанность собаки».
Конечно, Горький понимал, что «гордость такими людьми печальна в сущности своей». Теперь мы знаем, что судьбы их, в совокупности своей, определяют национальную трагедию России.
Как прямое следствие нового типа отношений между мужчиной и женщиной, произошел распад семьи, вместе с семьею были утрачены естественные условия для воспитания подрастающих поколений, снижена роль женщины, превращенной в «орудие» для выполнения различных функций, навязанных ей обществом, почти всегда не отвечающих ее природному назначению.
Лесков относился к тем русским писателям, которые предвидели неотвратимые последствия вульгаризации идей женской эмансипации. Он был автором многих полемических статей, непосредственно направленных против так называемых «специалистов по женской части», представляющих в виде идеала с его точки зрения «придурковатых героинь» антинигилистических повестей В. П. Авенариуса (1839—1923) и В. А. Слепцова (1836—1878). «Наша верующая и хранящая предания страна не оскудевала никогда серьезными женщинами и благодаря здравому смыслу русского народа, оберегающего святыню семьи, не оскудела от них и ныне», — писал Лесков в одной из своих статей об идеале женщины, как он его себе представляет. Эти соображения писателя по женскому вопросу дают ключ к пониманию образа Ванскок не по-горьковски отвлеченно, а в системе лесковских воззрений. Писатель замыслил и мастерски воплотил этот тип не как идеал и образец для подражания, а, наоборот, как предостережение от последствий бедственного для женской судьбы увлечения нигилизмом.
Вопрос о прототипах, всегда столь важный для Лескова потому, что он писал с натуры, в связи с романом «На ножах» не ставился. Более того, после романа «Некуда» (1865), где, как утверждала литературная общественность, были окарикатуренно изображены в образах Белоярцева и Завулонова писатели-демократы В. А. Слепцов и А. И. Левитов (1835—1877), тщательно обходился. Еще был жив у всех в памяти скандал, разразившийся после романа «Некуда», фотографичность которого дала повод говорить о «видимом сходстве» отдельных героев романа с известными людьми.
И хотя, по мнению Лескова, оно «не может никого ни обижать, ни компрометировать», другие его произведения, продолжившие галерею нигилистических типов, уже не давали материал для подобных сопоставлении.
Некоторые намеки, сохранившиеся в семейных преданиях и лесковских письмах, не касаясь проблемы изображения нигилистов, позволяют предположить, что фактографичность и фотографичность стали неотъемлемой частью лесковского творческого процесса. Так, например, сын писателя считал, что прототипом Александры Ивановны Синтяниной отчасти была тетка отца Наталья Петровна Страхова, которой в очень молодом возрасте пришлось познать «сладость супружества с «полупомешанным», старевшим уже «благодетелем» ее семьи Страховым». Во всяком случае, в местном орловском обществе обстоятельства, связанные с замужеством Синтяниной, воспринимались как некий намек на судьбу Натальи Петровны, которая, как и Синтянина, овдовела и после мужа-старика счастливо вышла замуж за своего сверстника.
Попали в роман со своими житейскими историями также лица из литературного окружения Лескова тех лет. Одно из них — писатель С. И. Турбин (1821—1884), автор рассказов о военном быте, которые высоко ценил Лесков.
Андрей Лесков вспоминал, что отец называл Турбина «нигилистом чистой расы» и вывел «значительно смягченным» в романе «На ножах» в лице майора Форова.
С. И. Турбин был атеист и оригинальный мыслитель, яростно низвергающий евангельские авторитеты, дорогие Лескову своими нравственными началами. Может быть, поэтому в романе Лесков пытается повернуть Форова к Богу и заставляет его дружить с деревенским попом Евангелом — мыслителем другого рода.
Факты биографии Турбина почти без изменений использованы Лесковым в романе. «Он и в самом деле, — пишет Андрей Лесков, — был человеком чистой души и расы, неизменным в своих, по тому времени очень крайних взглядах и убеждениях. Форов уходит в отставку, оскорбив «на словах» командира полка, оказавшего неуважение его жене. Сергей Иванович, по словам Лескова, дал командиру полка пощечину за неприглашение на полковой бал его жены, на которой он, как неколебимый атеист и нигилист, еще не был церковно женат. Грозило расстреляние. После многих ходатайств оно было заменено разжалованием в рядовые. Карьера была непоправимо покалечена. Офицерство пришло очень много лет спустя, и служба потом была вскоре же брошена. Это был, как Филатов (художник Я. Л. Филатов, друг Лескова. — А. Ш.), бессребреник и тоже в своем роде и «антик» и «праведник». Солдаты, расставаясь с Форовым, бегут за ним и в виде высшей, какая есть, хвалы и благодарности кричат ему: «Да разве вы похожи на благородных?».
Другое лицо из литературного окружения Н. С. Лескова, послужившее ему в качестве прототипа, — Всеволод Крестовский. С ним Лескова на протяжении многих лет связывали дружеские отношения. «В шестидесятых годах, работая в «Отечественных записках», — рассказывает сын писателя, — Лесков сходится с автором печатавшихся тогда в этом журнале «Петербургских трущоб» Крестовским. Вместе с «Всеволодом» и известным ваятелем, по приятельству — «Михайлой» Микешиным, Лесков посещает «Вяземскую лавру» на Сенной площади. Невдолге пути приятелей начинают расходиться...». И хотя «до последних своих дней Лесков не отнимал у Крестовского прежних его заслуг» и считал, что «Петербургские трущобы» в свое время сыграли большую роль как одна из первых попыток заинтересовать общество вопросами социального характера, заставить его читать «книгу о сытых и голодных» и задуматься о доле последних», выступал с защитой авторских прав Крестовского, в жизни у них произошло «отграничение». Может быть, оно было связано с обстоятельствами создания романа «На ножах». Во всяком случае, в письме Крестовского к Лескову от 14 декабря 1871 года Крестовский укоряет Лескова за то, что «весьма некрасивый герой Висленев» писан с него. В ответном письме Лесков сделал попытку отвести эти обвинения, но, судя по его тексту, это ему не вполне удалось. Какие эпизоды биографии Крестовского и черты его личности использованы Лесковым, сейчас установить трудно, любопытен сам факт из взаимоотношений двух известных писателей.
Как видно, в эти годы художественную мысль Лескова по большей части питали только непосредственные жизненные впечатления, впоследствии же в неимоверном количестве Лесковым поглощались труды историков, мемуары и вообще всякая литература, сколько-нибудь связанная с разработкой очередного замысла.
Будущим исследователям творческой истории романа «На ножах» также нельзя будет пройти мимо другого весьма примечательного обстоятельства, опять-таки связанного с именем В. Крестовского. Связь старика Бодростина с княгиней Вахтерминской во многом напоминает одну из сюжетных линий «Петербургских трущоб» (1864—1867) — отношения старшего Шадурского с баронессой фон Деринг. Как и у Крестовского, в романе Лескова волокитство престарелого селадона осложняется появлением внебрачного ребенка, вокруг которого развертывается интрига, грозящая старику разоблачением, привлечением к суду и другими неприятностями. В действительности в том и другом случае призванный к ответу «отец» лишь покрывает грехи молодого любовника, который, оставаясь в тени, обнаруживает также способность к подделке денежных бумаг — у Лескова, копируя при этом подпись богатого покровителя, у Крестовского — подделывая и другие документы. Эти персонажи в обоих романах ведут свое происхождение из Польши, имеют польские фамилии и относят себя к людям художественных профессий. Такая сюжетная близость не может быть случайным совпадением, а чем ее объяснить — заимствованием из «Петербургских трущоб» или обращением к общему источнику — какой-нибудь скандальной историйке, освещенной в прессе, еще надо решить. Есть и другой вариант объяснения. Поступки людей определенного социального положения Крестовский и Лесков оценивают по единой нравственной шкале, сквозь призму тех моральных оценок, которые свойственны в этот период как одному, так и другому. В романе Лескова этот бульварный мотив «работает» в сюжете не хуже, чем в «Петербургских трущобах», и, используя его, Лесков преследует помимо разоблачительных и развлекательные цели. С этой любовной истории им снят накал подлинных страстей, которые сопутствуют, например, «роковой Ларисе» в обстоятельствах ее падения и двоемужества. Не случайно разноречивая в своих суждениях критика начала века признавала, что в романе «есть страницы, положительно увлекательные».
В небольшой по объему статье трудно в полной мере оценить значение романа, который долгое время преднамеренно замалчивался и обходился критикой. За ее пределами пока останутся параллели с антинигилистическими романами А. Ф. Писемского, В. В. Крестовского, В. П. Клюшникова, которые, возможно, не сблизят эти произведения с романом «На ножах», а идейно и художественно разведут их в разные стороны. Несмотря на отдельные присущие лесковскому произведению черты антинигилистического романа, в нем более самобытного лесковского, основанного на жизненном опыте писателя, чем традиционного для антинигилистической беллетристики. И современники Лескова, быть может, не так уж правы, сближая роман «На ножах» и «Бесы» (1870—1871) Ф. М. Достоевского до такой степени, что авторы этих двух произведений «слились в какой-то единый тип, в гомункула, родившегося в знаменитой чернильнице редактора «Московских ведомостей». Каждый из авторов действительно был увлечен проблемой идейных поисков и блужданий молодого поколения 1860-х, каждый размышлял о путях развития России после реформы, но в силу особенностей таланта и мировоззрения «злободневное» и «тенденциозное» преломилось в их романах по-разному. Достоевский исследует по материалам прессы (так как живет в это время за границей) реальный пласт русской жизни — деятельность тайного общества, прототипом которого стал нечаевский кружок. Его всерьез интересуют идеологические и организационные принципы общества, пропагандистская литература, мотивы убийства одного из его членов. В фокусе лесковского романа оказываются бывшие нигилисты, вышедшие из политической борьбы, но пытающиеся оставить за собой право на иные нравственные нормы, на особое общественное положение. «Общительность интересов рушилась, — пишет Лесков об этом кружке, — всякому предоставлялось вредить обществу по-своему». Достоевский, который прочел «На ножах» в период обдумывания замысла «Бесов», был глубоко разочарован разработкой темы нигилизма у Лескова. «Много вранья, много черт знает чего, точно на луне происходит, — раздраженно писал он критику А. Н. Майкову. — Нигилисты искажены до бездельничества...». К своему роману Достоевский приступил, только всесторонне изучив предмет, и его «Бесы» и по мысли, и художественно с лесковским «На ножах» не соизмеримы как явления разного идейного уровня и разных повествовательных манер.
Несмотря на то, что почти одновременное появление «На ножах» и «Бесов» в «Русском вестнике» и взаимное внимание авторов к этим произведениям (Лесков отмечает близость своего романа с «Бесами» и романом Писемского «В водовороте» таким образом: «...все мы трое во многом сбились на одну мысль» свидетельствуют об определенных творческих отношениях Лескова и Достоевского, идейном притяжении и отталкивании, романы их опираются на разные концепции действительности.
«Если для Достоевского, — пишет один из современных исследователей, совместивший в своих трудах интерес к творчеству обоих писателей, — разложение и распад современной ему общественной реальности процесс необратимый и неуправляемый, то Лесков весь еще во власти иллюзий, он уверен, что «бесовские» кошмары рассеются, плавное безбурное развитие общества возьмет свое».
Время показало, что если подходить к вопросам развития действительности диалектически, не ограничиваясь попыткой статической фиксации времени, то правы оба писателя.
В свете широких перспектив общенационального развития каждое из произведений оказалось не только «летописью заблуждений, ошибок, неправд и грехов общественного неразумения и злобы по делам якобы текущего дня», как представлялось их авторам, но и пророческим произведением. Видимо, поэтому оба романа, если судить по количеству их переизданий, осуществившихся в последнее время, переживают свое второе рождение.
А. Шелаева
«На ножах» текст и художественный фильм.
|