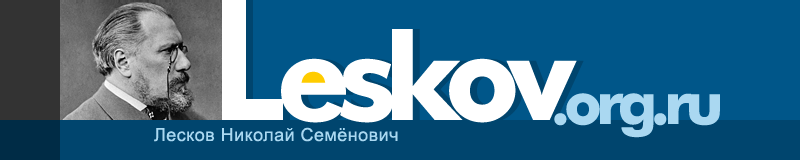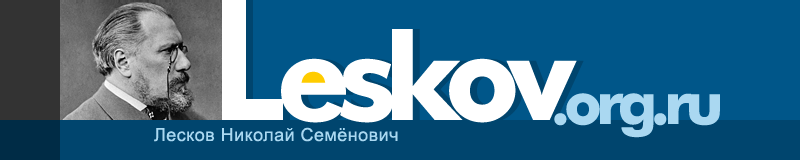|
Воительница.
Глава третья
«Воительница».
Главы: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - Примечания - Аудиокнига
Мое знакомство с Домной Платоновной началось по пустому поводу. Жил я как-то на квартире у одной полковницы, которая говорила на шести европейских языках, не считая польского, на который она сбивалась со всякого. Домна Платоновна знала ужасно много таких полковниц в Петербурге и почти для всех их обделывала самые разнообразные делишки: сердечные, карманные и совокупно карманно-сердечные и сердечно-карманные. Моя полковница была, впрочем, действительно дама образованная, знала свет, держала себя как нельзя приличнее, умела представить, что уважает в людях их прямые человеческие достоинства, много читала, приходила в неподдельный восторг от поэтов и любила декламировать из «Марии» Мальчевского:
Bo na tym swiecie smiere wszystko zmiecie.
Robak sie legnie i w bujnym kwiecie.
Я видел Домну Платоновну первый раз у своей полковницы. Дело было вечером; я сидел и пил чай, а полковница декламировала мне:
Bo na tym swiecie smiere wszystko zmiecie.
Robak sie legnie i w bujnym kwiecie.[1]
Домна Платоновна вошла, помолилась богу, у самых дверей поклонилась на все стороны (хотя, кроме нас двух, в комнате никого и не было), положила на стол свой саквояж и сказала:
— Ну вот, мир вам, и я к вам!
В этот раз на Домне Платоновне был шелковый коричневый капот, воротничок с язычками, голубая французская шаль и серизовая гроденаплевая повязочка, словом весь ее мундир, в котором читатели и имеют представлять ее теперь своему художественному воображению.
Полковница моя очень ей обрадовалась и в то же время при появлении ее будто немножко покраснела, но приветствовала Домну Платоновну дружески, хотя и с немалым тактом.
— Что это вас давно не видно было, Домна Платоновна?— спрашивала ее полковница.
— Всё, матушка, дела,— отвечала, усаживаясь и осматривая меня, Домна Платоновна.
— Какие у вас дела!
— Да ведь вот тебе, да другой такой-то, да третьей, всем вам кортит, всем и угодить надо; вот тебе и дела.
— Ну, а то дело, о котором ты меня просила-то, помнишь... — начала Домна Платоновна, хлебнув чайку.— Была я намедни... и говорила...
Я встал проститься и ушел.
Только всего и встречи моей было с Домной Платоновной. Кажется, знакомству бы с этого завязаться весьма трудно, а оно, однако, завязалось.
Сижу я раз после этого случая дома, а кто-то стук-стук-стук в двери.
— Войдите,— отвечаю, не оборачиваясь.
Слышу, что-то широкое вползло и ворочается. Оглянулся — Домна Платоновна.
— Где ж,— говорит,— милостивый государь, у тебя здесь образ висит?
— Вон,— говорю,— в угле, над шторой.
— Польский образ или наш, христианский?— опять спрашивает, приподнимая потихоньку руку.
— Образ,— отвечаю,— кажется, русский.
Домна Платоновна покрыла глаза горсточкой, долго всматривалась в образ и наконец махнула рукою — дескать: «все равно!» — и помолилась.
— А узелочек мой,— говорит,— где можно положить?— и оглядывается.
— Положите,— говорю,— где вам понравится.
— Вот тут-то,— отвечает,— на диване его пока положу.
Положила саквояж на диван и сама села.
«Милый гость,— думаю себе,— бесцеремонливый».
— Этакие нынче образки маленькие,— начала Домна Платоновна,— в моду пошли, что ничего и не рассмотришь. Во всех это у аристократов всё маленькие образки. Как это нехорошо.
— Чем же это вам так не нравится?
— Да как же: ведь это, значит, они бога прячут, чтоб совсем и не найти его.
Я промолчал.
— Да право,— продолжала Домна Платоновна,— образ должен быть в свою меру.
— Какая же,— говорю,— мера, Домна Платоновна, на образ установлена?— и сам, знаете, вдруг стал чувствовать себя с ней как со старой знакомой.
— А как же!— возговорила Домна Платоновна,— посмотри-ка ты, милый друг, у купцов: у них всегда образ в своем виде, ланпад и сияние... все это как должно. А это значит, господа сами от бога бежат, и бог от них далече. Вот нынче на святой была я у одной генеральши... и при мне камердинер ее входит и докладывает, что священники, говорит, пришли.
«Отказать»,— говорит.
«Зачем,— говорю ей,— не отказывайте — грех».
«Не люблю,— говорит,— я попов».
Ну что ж, ее, разумеется, воля; пожалуй себе отказывай, только ведь ты не любишь посланного; а тебя и пославший любить не будет.
— Вон,— говорю,— какая вы, Домна Платоновна, рассудительная!
— А нельзя,— отвечает,— мой друг, нынче без рассуждения. Что ты сколько за эту комнату платишь?
— Двадцать пять рублей.
— Дорого.
— Да и мне кажется дорого.
— Да что ж,— говорит,— не переедешь?
— Так,— говорю,— возиться не хочется.
— Хозяйка хороша.
— Нет, полноте,— говорю,— что вы там с хозяйкой.
— Ц-ты! Говори-ка, брат, кому-нибудь другому, да не мне; я знаю, какие все вы, шельмы.
«Ничего,— думаю,— отлично ты, гостья дорогая, выражаешься».
— Они, впрочем, полячки-то эти ловкие тоже,— продолжала, зевнув и крестя рот, Домна Платоновна,— они это с рассуждением делают.
— Напрасно,— говорю,— вы, Домна Платоновна, так о моей хозяйке думаете: она женщина честная.
— Да тут, друг милый, и бесчестия ей никакого нет: она человек молодой.
— Речи ваши,— говорю,— Домна Платоновна, умные и справедливые, но только я-то тут ни при чем.
— Ну, был ни при чем, стал городничо?м; знаю уж я эти петербургские обстоятельства, и мне толковать про них нечего.
«И вправду,— думаю,— тебя, матушка, не разуверишь».
— А ты ей помогай — плати, мол, за квартиру-то,— говорила Домна Платоновна, пригинаясь ко мне и ударяя меня слегка по плечу.
— Да как же,— говорю,— не платить?
— А так — знаешь, ваш брат, как осетит нашу сестру, так и норовит сейчас все на ее счет...
— Полноте, что это вы!— останавливаю Домну Платоновну.
— Да, дружок, наша-то сестра, особенно русская, в любви-то куда ведь она глупа: «на, мой сокол, тебе», готова и мясо с костей срезать да отдать; а ваш брат шаматон этим и пользуется.
— Да полноте вы, Домна Платоновна, какой я ей любовник.
— Нет, а ты ее жалей. Ведь если так-то посудить, ведь жалка, ей-богу же, друг мой, жалка наша сестра! Нашу сестру уж как бы надо было бить да драть, чтоб она от вас, поганцев, подальше береглась. И что это такое, скажи ты, за мудрено сотворено, что мир весь этими соглядатаями, мужчинами преисполнен!.. На что они? А опять посмотришь, и без них все будто как скучно; как будто под иную пору словно тебе и недостает чего. Черта в стуле, вот чего недостает!— рассердилась Домна Платоновна, плюнула и продолжала: — Я вон так-то раз прихожу к полковнице Домуховской... не знавал ты ее?
— Нет,— говорю,— не знавал.
— Красавица.
— Не знаю.
— Из полячек.
— Так что ж,— говорю,— разве я всех полячек по Петербургу знаю?
— Да она не из самых настоящих полячек, а крещеная,— вашей веры!
— Ну, вот и знай ее, какая такая есть госпожа Домуховская не из самых полячек, а нашей веры. Не знаю,— говорю,— Домна Платоновна; решительно не знаю.
— Муж у нее доктор.
— А она полковница?
— А тебе это в диковину, что ль?
— Ну-с, ничего,— говорю,— что же дальше?
— Так она с мужем-то с своим, понимаешь, попштыкалась.
— Как это попштыкалась?
— Ну, будто не знаешь, как, значит, в чем-нибудь не уговорились, да сейчас пшик-пшик, да и в разные стороны. Так и сделала эта Леканидка.
«Очень,— говорит,— Домна Платоновна, он у меня нравен».
Я слушаю да головой качаю.
«Капризов,— говорит,— я его сносить не могу; нервы мои,— говорит,— не выносят».
Я опять головой качаю. «Что это,— думаю,— у них нервы за стервы, и отчего у нас этих нервов нет?»
Прошло этак с месяц, смотрю, смотрю — моя барыня квартиру сняла: «жильцов,— говорит,— буду пущать».
«Ну что ж,— думаю,— надоело играть косточкой, покатай желвачок; не умела жить за мужней головой, так поживи за своей: пригонит нужа и к поганой луже, да еще будешь пить да похваливать».
Прихожу к ней опять через месяц, гляжу — жилец у нее есть, такой из себя мужчина видный, ну только худой и этак немножко осповат.
«Ах,— говорит,— Домна Платоновна, какого мне бог жильца послал — деликатный, образованный и добрый такой, всеми моими делами занимается».
«Ну, деликатиться-то, мол, они нынче все уж, матушка, выучились, а когда во все твои дела уж он взошел, так и на что ж того и законней?»
Я это смеюсь, а она, смотрю, пых-пых, да и спламенела.
Ну, мой суд такой, что всяк себе как знает, а что если только добрый человек, так и умные люди не осудят и бог простит. Заходила я потом еще раза два, все застаю: сидит она у себя в каморке да плачет.
«Что так,— говорю,— мать, что рано соленой водой умываться стала?»
«Ах,— говорит,— Домна Платоновна, горе мое такое»,— да и замолчала.
«Что, мол,— говорю,— такое за горе? Иль живую рыбку съела?»
«Нет,— говорит,— ничего такого, слава богу, нет».
«Ну, а нет,— говорю,— так все другое пустяки».
«Денег у меня ни грошика нет».
«Ну, это,— думаю,— уж действительно дрянь дело; но знаю я, что человека в такое время не надо печалить».
«Денег,— говорю,— нет — перед деньгами. А жильцы ж твои»,— спрашиваю.
«Один,— говорит,— заплатил, а то пустые две комнаты».
«Вот уж эта мерзость запустения,— говорю,— в вашем деле всего хуже. Ну, а дружок-то твой?» Так уж, знаешь, без церемонии это ее спрашиваю.
Молчит, плачет. Жаль мне ее стало: слабая, вижу, неразумная женщина.
«Что ж,— говорю,— если он наглец какой, так и вон его».
Плачет на эти слова, ажно платок мокрый за кончики зубами щипет.
«Плакать,— говорю,— тебе нечего и убиваться из-за них, из-за поганцев, тоже не стоит, а что отказала ему, да только всего и разговора, и найдем себе такого, что и любовь будет и помощь; не будешь так-то зубами щелкать да убиваться». А она руками замахала: не надо! не надо! не надо!» да сама кинулась в постель головой, в подушки, и надрывается, ажно как спинка в платье не лопнет. У меня на то время был один тоже знакомый купец (отец у него по Суровской линии свой магазин имеет), и просил он меня очень: «Познакомь,— говорит,— ты меня, Домна Платоновна, с какой-нибудь барышней, или хоть и с дамой, но только чтоб очень образованная была. Терпеть,— говорит,— не могу необразованных». И поверить можно, потому и отец у них и все мужчины в семье все как есть на дурах женаты, и у этого-то тоже жена дурища — всё, когда ни приди, сидит да печатаные пряники ест.
«На что,— думаю,— было бы лучше желать и требовать, как эту Леканиду суютить с ним». Но, вижу, еще глупа — я и оставила ее: пусть дойдет на солнце!
Месяца два я у нее не была. Хоть и жаль было мне ее, но что, думала себе, когда своего разума нет и сам человек ничем кругом себя ограничить не понимает, так уж ему не поможешь.
Но о спажинках была я в их доме; кружевцов немного продала, и вдруг мне что-то кофию захотелось, и страсть как захотелось. Дай, думаю, зайду к Домуховской, к Леканиде Петровне, напьюсь у нее кофию. Иду это по черной лестнице, отворяю дверь на кухню — никого нет. Ишь, говорю, как живут откровенно — бери что хочешь, потому и самовар и кастрюли, все, вижу, на полках стоит.
Да только что этак-то подумала, иду по коридору и слышу, что-то хлоп-хлоп, хлоп-хлоп. Ах ты, боже мой! что это? думаю. Скажите пожалуйста, что это такое? Отворяю дверь в ее комнату, а он, этот приятель-то ее добрый — из актеров он был, и даже немаловажный актер — артист назывался; ну-с, держит он, сударь, ее одною рукою за руку, а в другой нагайка.
«Варвар! варвар!— закричала я на него,— что ты это, варвар, над женщиной делаешь!» — да сама-то, знаешь, промеж них, саквояжем-то своим накрываюсь, да промеж них-то. Вот ведь что вы, злодеи, над нашей сестрой делаете!
Я молчал.
— Ну, тут-то я их разняла, не стал он ее при мне больше наказывать, а она еще было и отговаривается:
«Это,— говорит,— вы не думайте, Домна Платоновна; это он шутил»,
«Ладно,— говорю,— матушка; бочка?-то, гляди, в платье от его шутилки не потрескались ли». Однако жили опять; все он у нее стоял на квартире, только ничего ей, мошенник, ни грошика не платил.
— Тем и кончилось?
— Ну, нет; через несколько времени пошел у них опять карамболь, пошел он ее опять что день трепать, а тут она какую-то жиличку еще к себе, приезжую барыньку из купчих, приняла. Чай ведь сам знаешь, наши купчихи, как из дому вырвутся, на это дело препростые... Ну он ко всему же к прежнему да еще почал с этой жиличкой амуриться — пошло у них теперь такое, что я даже и ходить перестала.
«Бог с вами совсем! живите,— думаю,— как хотите».
Только тринадцатого сентября, под самое воздвиженье честна?го и животворящаго креста, пошла я к Знаменью, ко всенощной. Отстояла всенощную, выхожу и в самом притворе на паперти, гляжу — эта самая Леканида Петровна. Жалкая такая, бурнусишко старенький, стоит на коленочках в уголочке и плачет. Опять меня взяла на нее жалость.
«Здравствуй,— говорю,— Леканида Петровна!»
«Ах, душечка,— говорит,— моя, Домна Платоновна, такая-сякая немазаная! Сам бог,— говорит,— мне вас послал»,— а сама так вот ручьями слез горьких и заливается.
«Ну,— я говорю,— бог, матушка, меня не посылал, потому что бог ангелов бесплотных посылает, а я человек в свою меру грешный; но ты все-таки не плачь, а пойдем куда-нибудь под насесть сядем, расскажи мне свое горе; может, чем-нибудь надумаемся и поможем».
Пошли.
«Что варвар твой, что ли, опять над тобой что сделал?» — спрашиваю ее.
«Никого,— говорит,— никакого варвара у меня нет».
«Да куда же это ты идешь?» — говорю, потому квартира ее была в Шестилавочной, а она, смотрю, на Грязную заворачивает.
Слово по слову, и раскрылось тут все дело, что квартиры уж у нее нет: мебелишку, какая была у нее, хозяин за долг забрал; дружок ее пропал — да и хорошо сделал,— а живет она в каморочке, у Авдотьи Ивановны
Дислен. Такая эта подлая Авдотья Ивановна, даром что майорская она дочь и дворянством своим величается, ну, а преподлая-подлая. Чуть я за нее, за негодяйку, один раз в квартал не попала по своей простоте по дурацкой. «Ну, только,— говорю я Леканиде Петровне,— я эту Дисленьшу, мой друг, очень знаю — это первая мошенница».
«Что ж,— говорит,— делать! Голубочка Домна Платоновна, что же делать?»
Ручонки-то, гляжу, свои ломит, ломит, инда даже смотреть жалко, как она их коверкает.
«Зайдите,— говорит,— ко мне».
«Нет,— говорю,— душечка, мне тебя хоша и очень жаль, но я к тебе в Дисленьшину квартиру не пойду — я за нее, за бездельницу, и так один раз чуть в квартал не попала, а лучше, если есть твое желание со мной поговорить, ты сама ко мне зайди».
Пришла она ко мне: я ее напоила чайком, обогрела, почавкали с нею, что бог послал на ужин, и спать ее с собой уложила. Довольно с тебя этого?
Я кивнул утвердительно головою.
— Ночью-то что я еще через нее страху имела! Лежит-лежит она, да вдруг вскочит, сядет на постели, бьет себя в грудь. «Голубочка,— говорит,— моя, Домна Платоновна! Что мне с собой делать?»
Какой час, уж вижу, поздний. «Полно,— говорю,— себе убиваться,— спи. Завтра подумаем».
«Ах,— говорит,— не спится мне, не спится мне, Домна Платоновна».
Ну, а мне спать смерть как хочется, потому у меня сон необыкновенно какой крепкий.
Проспала я этак до своего часу и прокинулась. Я прокинулась, а она, гляжу, в одной рубашоночке сидит на стуле, ножонки под себя подобрала и папироску курит. Такая беленькая, хорошенькая да нежненькая — точно вот пух в атласе.
«Умеешь,— спрашиваю,— самоварчик поставить?»
«Пойду,— говорит,— попробую».
Надела на себя юбчонку бумазейную и пошла в кухоньку. А мне-таки тут что-то смерть не хотелось вставать. Приносит она самоваришко, сели мы чай пить, она и говорит: «Что,— говорит,— я, Домна Платоновна, надумалась?»
«Не знаю,— говорю,— душечка, чужую думку своей не раздумаешь».
«Поеду я,— говорит,— к мужу».
«На что, мол, лучше этого, как честной женой быть — когда б,— спрашиваю,— только он тебя принял?»
«Он,— говорит,— у меня добрый; я теперь вижу, что он всех добрей».
«Добрый-то,— отвечаю ей,— это хорошо, что он добрый; а скажи-ка ты мне, давно ты его покинула-то?»
«А уж скоро,— говорит,— Домна Платоновна, как с год будет».
«Да вот, мол, видишь ты, с год уж тому прошло. Это тоже,— говорю,— дамочка, время не малое».
«А что же,— спрашивает,— такое, Домна Платоновна, вы в этом полагаете?»
«Да то,— говорю,— полагаю, что не завелась ли там на твое место тоже какая-нибудь пирожная мастерица, горшечная пагубница».
«Я,— отвечает,— об этом, Домна Платоновна, и не подумала».
«То-то, мол, мать моя, и есть, что «не подумала». И все-то вот вы так-то об этом не думаете!.. А надо думать. Когда б ты подумала-то да рассудила, так, может быть, и много б чего с тобой не было».
Она таки тут ух как засмутилась! Заскребло, вижу, ее за сердчишко-то; губенки свои этак кусает, да и произносит таково тихонечко: «Он,— говорит,— мне кажется, совсем не такой был».
«Ах вы,— подумала я себе,— звери вы этакие капустные! Сами козами в горах так и прыгают, а муж хоть и им негож, так и другой не трожь». Не поверишь ты, как мне это всякий раз на них досадно бывает. «Прости-ка ты меня, матушка,— сказала я ей тут-то,— а только речь твоя эта, на мой згад, ни к чему даже не пристала. Что же,— говорю,— он, твой муж, за такой за особенный, что ты говоришь: не такой он? Ни в жизнь мою никогда я этому не поверю. Всё, я думаю, и он такой же самый, как и все: костяной да жильный. А ты бы,— говорю,— лучше бы вот так об этом сообразила, что ты, женщиной бымши, себя не очень-то строго соблюла, а ему,— говорю,— ничего это и в суд не поставится»,— потому что ведь и в самом-то деле, хоть и ты сам, ангел мой, сообрази: мужчина что сокол: он схватил, встрепенулся, отряхнулся, да и опять лети, куда око глянет; а нашей сестре вся и дорога, что от печи до порога. Наша сестра вашему брату все равно что дураку волынка: поиграл, да и кинул. Согласен ли ты с этой справедливостью?
Ничего не возражаю.
А Домна Платоновна, спасибо ей, не дождавшись моего ответа, продолжает:
— Ну-с, вот и эта, милостивая моя государыня, наша Леканида Петровна, после таких моих слов и говорит: «Я,— говорит,— Домна Платоновна, ничего от мужа не скрою, во всем сама повинюсь и признаюсь: пусть он хоть голову мою снимет».
«Ну, это,— отвечаю,— опять тоже, по-моему, не дело, потому что мало ли какой грех был, но на что про то мужу сказывать. Что было, то прошло, а слушать ему про это за большое удовольствие не будет. А ты скрепись и виду не покажи».
«Ах, нет!— говорит,— ах, нет, я лгать не хочу».
«Мало,— говорю,— чего не хочешь! Сказывается: грех воровать, да нельзя миновать».
«Нет, нет, нет, я не хочу, не хочу! Это грех обманывать».
Зарядила свое, да и баста.
«Я,— говорит,— прежде все опишу, и если он простит — получу ответ, тогда и поеду».
«Ну, делай, мол, как знаешь; тебя, видно, милая, не научишь. Дивлюсь только,— говорю,— одному, что какой это из вас такой новый завод пошел, что на грех идете, вы тогда с мужьями не спрашиваетесь, а промолчать, прости господи, о пакостях о своих — греха боитесь. Гляди,— говорю,— бабочка, не кусать бы тебе локтя!»
Так-таки оно все на мое вышло. Написала она письмо, в котором, уж бог ее знает, все объяснила, должно быть,— ответа нет. Придет, плачет-плачет — ответа нет.
«Поеду,— говорит,— сама; слугою у него буду».
Опять я подумала — и это одобряю. Она, думаю, хорошенькая, пусть хоть по-первоначалу какое время и погневается, а как она на глазах будет, авось опять дух, во тьме приходящий, спутает; может, и забудется. Ночная кукушка, знаешь, дневную всегда перекукует.
«Ступай,— говорю,— все ж муж, не полюбовник, все скорей смилуется».
«А где б,— говорит,— мне, Домна Платоновна, денег на дорогу достать?»
«А своих-то,— спрашиваю,— аль уж ничего нет?»
«Ни грошика,— говорит,— нет; я уж и Дисленьше должна».
«Ну, матушка, денег доставать здесь остро».
«Взгляните,— говорит,— на мои слезы».
«Что ж,— говорю,— дружок, слезы?— слезы слезами, и мне даже самой очень тебя жаль, да только Москва слезам не верит, говорит пословица. Под них денег не дадут».
Она плачет, я это тоже с нею сижу, да так промеж себя и разговариваем, а в комнату ко мне шасть вдруг этот полковник... как его зовут-то?
— Да ну, бог там с ним, как его зовут!
— Уланский, или как их это называются-то они?— инженер?
— Да бог с ним, Домна Платоновна.
— Ласточкин он, кажется, будет по фамилии, или как не Ласточкин? Так как-то птичья фамилия и не то с люди, не то с како начинается...
— Ах, да оставьте вы его фамилию в покое.
— Я этак-то вот много кого: по местам сейчас тебе найду, а уж фамилию не припомню. Ну, только входит этот полковник; начинает это со мною шутить, да на ушко и спрашивает:
«Что,— говорит,— это за барышня такая?»
Она совсем барыня, ну, а он ее барышней назвал: очень она еще моложава была на вид.
Я ему отвечаю, кто она такая.
«Из провинции?» — спрашивает.
«Это,— говорю,— вы угадали — из провинции».
А он это — не то как какой ветреник или повеса — известно, человек уж в таком чине — любил, чтоб женщина была хоть и на краткое время, но не забымши свой стыд, и с правилами; ну, а наши питерские, знаешь, чай, сам, сколько у них стыда-то, а правил и еще того больше: у стриженой девки на голове волос больше, чем у них правил.
— Ну-с, Домна Платоновна?
«Ну, сделай,— говорит,— милость, Домна Панталоновна»,— у них это, у полковых, у всех все такая привычка: не скажет: Платоновна, а Панталоновна.— «Ну-с,— говорит,— Домна Панталоновна, ничего,— говорит,— для тебя не пожалею, только ограничь ты мне это дело в порядке».
Я, знаешь, ничего ему решительного не отвечаю, а только бровями этак, понимаешь, на нее повела и даю ему мину, что, дескать, «трудно».
«Невозможно?» — говорит.
«Этого,— говорю,— я тебе, генерал мой хороший, не объясняю, потому это ее душа, ее и воля, а что хотя и не надеюсь, но попробовать я для тебя попробую».
А он сейчас мне: «Нечего,— говорит,— тут, Панталониха, словами разговаривать; вот,— говорит,— тебе пятьдесят рублей, и все их сейчас ей передай».
— И вы их,— спрашиваю,— передали?
— А ты вот лучше не забегай, а если хочешь слушать, так слушай. Рассуждаю я, взявши у него эти деньги, что хотя, точно, у нас с нею никогда разговора такого, на это похожего, не было, чтоб претекст мне ей такой сделать, ну только, зная эти петербургские обстоятельства, думаю: «Ох, как раз она еще, гляди, и сама рада, бедная, будет!» Выхожу я к ней в свою в маленькую комнатку, где мы сидели-то, и говорю: «Ты,— говорю,— Леканида Петровна, в рубашечке, знать, родилась. Только о деньгах поговорили, а оне,— говорю,— и вот оне», да бумажку-то перед ней и кладу. Она: «Кто это? как это? откуда?» — «Бог,— я говорю,— тебе послал»,— говорю ей громко, а на ушко-то шепчу: «Вот этот барин,— сказываю,— за одно твое внимание тебе посылает... Прибирай,— говорю,— скорей эти деньги!»
А она, смотрю, слезы у нее по глазам и на стол кап-кап, как гороховины. С радости или с горя — никак не разберу, с чего эти слезы.
«Прибери,— говорю,— деньги-то да выдь на минутку в ту комнату, а я тут покопаюсь... » Довольно тебе кажется, как я все это для нее вдруг прекрасно устроила?
Смотрю я на Домну Платоновну: ни бровка у нее не моргнет, ни уста у нее не лукавят; вся речь ее проста, сердечна; все лицо ее выражает одно доброе желание пособить бедной женщине и страх, чтоб это внезапно подвернувшееся благодетельное событие как-нибудь не расстроилось,— страх не за себя, а за эту же несчастную Леканиду.
— Довольно тебе этого? Кажется, все, что могла, все я для нее сделала,— говорит, привскакивая и ударяя рукою по столу, Домна Платоновна, причем лицо ее вспыхивает и принимает выражение гневное.— А она, мерзавка этакая!— восклицает Домна Платоновна,— она с этим самым словом — мах, безо всего, как сидела, прямо на лестницу и гу-гу-гу: во всю мочь ревет, значит. Осрамила! Я это в свой уголок скорей; он тоже за шапку да драла. Гляжу вокруг себя — вижу, и платок она свой шейный, так, мериносовый, старенький платчишко,— забыла. «Ну, постой же,— думаю,— ты, дрянь этакая! Придешь ты, гадкая, я тебе этого так не подарю». Через день, не то через два, вернулась это я к себе домой, смотрю — и она жалует. Я, хоть сердце у меня на ее невелико, потому что я вспыльчива только, а сердца долго никогда не держу, но вид такой ей даю, что сердита ужасно.
«Здравствуйте,— говорит,— Домна Платоновна».
«Здравствуй,— говорю,— матушка! За платочком, что ли, пришла?— вон твой платок».
«Я,— говорит,— Домна Платоновна, извините меня, так тогда испугалась».
«Да,— говорю ей,— покорно вас, матушка, благодарю. За мое же к вам за расположение вы такое мне наделали, что на что лучше желать-требовать».
«В перепуге,— говорит,— я была, Домна Платоновна, простите, пожалуйста».
«Мне,— отвечаю,— тебя прощать нечего, а что мой дом не такой, чтоб у меня шкандалить, бегать от меня по лестницам, да визги эти свои всякие здесь поднимать. Тут,— говорю,— и жильцы благородные живут, да и хозяин,— говорю,— процентщик — к нему что минута народ идет, так он тоже этих визгов-то не захочет у себя слышать».
«Виновата я, Домна Платоновна. Сами вы посудите, такое предложение».
«Что ж ты,— говорю,— такая за особенная, что этак очень тебя предложение это оскорбило? Предложить,— говорю,— всякому это вольно, так как ты женщина нуждающая; а ведь тебя насильно никто не брал, и зевать-то, стало быть, тебе во все горло нечего было».
Простить просит.
Я ей и простила, и говорить с ней стала, и чаю чашку налила.
«Я к вам,— говорит,— Домна Платоновна, с просьбой: как бы мне денег заработать, чтоб к мужу ехать».
«Как же, мол, ты их, сударыня, заработаешь? Вот был случай, упустила, теперь сама думай; я уж ничего не придумаю. Что ж ты такое можешь работать?»
«Шить,— говорит,— могу; шляпы могу делать».
«Ну, душечка,— отвечаю ей,— ты лучше об этом меня спроси; я эти петербургские обстоятельства-то лучше тебя знаю; с этой работой-то, окромя уж того, что ее, этой работы, достать негде, да и те, которые ею и давно-то занимаются и настоящие-то шитвицы, так и те,— говорю,— давно голые бы ходили, если б на одежонку себе грехом не доставали».
«Так как же,— говорит,— мне быть?» — и опять руки ломает.
«А так,— говорю,— и быть, что было бы не коробатиться; давно бы,— говорю,— уж другой бы день к супругу выехала».
И-и-их, как она опять на эти мои слова вся как вспыхнет!
«Что это,— говорит,— вы, Домна Платоновна, говорите? Разве,— говорят,— это можно, чтоб я на такие скверные дела пустилась?»
«Пускалась же — говорю,— меня про то не спрашивалась».
Она еще больше запламенела.
«То,— говорит,— грех мой такой был, увлечение, а чтобы я,— говорит,— раскаявшись да собираясь к мужу, еще на этакие подлые средства поехала — ни за что на свете!»
«Ну, ничего,— говорю,— я, матушка, твоих слов не понимаю. Никаких я тут подлостей не вижу. Мое,— говорю,— рассуждение такое, что когда если хочет себя женщина на настоящий путь поворотить, так должна она всем этим пренебрегать».
«Я,— говорит,— этим предложением пренебрегаю».
Очень, слышь, большая барыня! Так там с своим с конопастым безо всякого без путя сколько время валандалась, а тут для дела, для собственного покоя, чтоб на честную жизнь себя повернуть — шагу одного не может, видишь, ступить, минутая уж ей одна и та тяжела очень стала.
Смотрю опять на Домну Платоновну — ничего в ней нет такого, что лежит печатью на специалистках по части образования жертв «общественного недуга», а сидит передо мною баба самая простодушная и говорит свои мерзости с невозмутимою уверенностью в своей доброте и непроходимой глупости госпожи Леканидки.
— «Здесь, говорю,— продолжает Домна Платоновна,— столица; здесь даром, матушка, никто ничего не даст и шагу-то для тебя не ступит, а не то что деньги».
Этак поговорили — она и пошла. Пошла она, и недели с две, я думаю, ее не было видно. На конец того дела является голубка вся опять в слезах и опять с своими охами да вздохами.
«Вздыхай,— говорю,— ангел мой, не вздыхай, хоть грудь надсади, но как я хорошо петербургские обстоятельства знаю, ничего тебе от твоих слез не поможется».
«Боже мой!— сказывает,— у меня уж, кажется, как глаза от слез не вылезут, голова как не треснет, грудь болит. Я уж,— говорит,— и в общества сердобольные обращалась: пороги все обила — ничего не выходила».
«Что ж, сама ж,— говорю,— виновата. Ты бы меня расспросила, что эти все общества значат. Туда,— говорю,— для того именно и ходят, чтоб только последние башмаки дотаптывать».
«Взгляните,— говорит,— сами, какая я? На что я стала похожа».
«Вижу,— отвечаю ей,— вижу, мой друг, и нимало не удивляюсь, потому горе только одного рака красит, но помочь тебе,— говорю,— ничем не могу».
С час тут-то она у меня сидела и все плакала, и даже, правду сказать, уж и надоела.
«Нечего,— говорю ей на конец того,— плакать-то: ничего от этого не поможется; а умнее сказать, надо покориться».
Смотрю, слушает с плачем и — уж не сердится.
«Ничего,— говорю,— друг любезный, не поделаешь: не ты первая, не ты будешь и последняя».
«Занять бы,— говорит,— Домна Платоновна, хоть рублей пятьдесят».
«Пятидесяти копеек,— говорю,— не займешь, а не то что пятидесяти рублей — здесь не таковский город, а столица. Были у тебя пятьдесят рублей в руках — точно, да не умела ты их брать, так что ж с тобой делать?»
Поплакала она и ушла. Было это как раз, помню, на Иоанна Рыльского, а тут как раз через два дня живет праздник: иконы казанския божьей матери. Так что-то мне в этот день ужасно как нездоровилось — с вечера я это к одной купчихе на Охту ездила да, должно быть, простудилась — на этом каторжном перевозе — ну, чувствую я себя, что нездорова; никуда я не пошла: даже и у обедни не была; намазала себе нос салом и сижу на постели. Гляжу, а Леканида Петровна моя ко мне жалует, без бурнусика, одним платочком покрывшись.
«Здравствуйте,— говорит,— Домна Платоновна».
«Здравствуй,— говорю,— душечка. Что ты,— спрашиваю,— такая неубранная?»
«Так,— говорит,— на минуту,— говорит,— выскочила»,— а сама, вижу, вся в лице меняется. Не плачет, знаешь, а то всполыхнет, то сбледнеет. Так меня тут же как молонья? мысль и прожгла: верно, говорю себе, чуть ли ее Дисленьша не выгнала.
«Или,— спрашиваю,— что у вас с Дисленьшей вышло?» — а она это дёрг-дёрг себя за губенку-то, и хочет, вижу, что-то сказать, и заминается.
«Говори, говори, матушка, что такое?»
«Я,— говорит,— Домна Платоновна, к вам». А я молчу.
«Как,— говорит,— вы, Домна Платоновна, поживаете?»
«Ничего,— говорю,— мой друг. Моя жизнь все одинаковая».
«А я... — говорит,— ах, я просто совсем с ног сбилася».
«Тоже,— говорю,— видно, и твое все еще одинаково?»
«Все то же самое,— говорит.— Я уж,— говорит,— всюду кидалася. Я уж, кажется, всякий свой стыд позабыла; все ходила к богатым людям просить. В Кузнечном переулке тут, говорили, один богач помогает бедным — у него была; на Знаменской тоже была».
«Ну, и много же,— говорю,— от них вынесли?»
«По три целковых».
«Да и то,— говорю,— еще много. У меня,— говорю,— купец знакомый у Пяти Углов живет, так тот разменяет рубль на копейки и по копеечке в воскресенье и раздает. «Все равно, говорит, сто добрых дел выходит перед богом». Но чтоб пятьдесят рублей, как тебе нужно,— этого,— говорю,— я думаю, во всем Петербурге и человека такого нет из богачей, чтобы даром дал».
«Нет,— говорит,— говорят, есть».
«Кто ж это, мол, тебе говорил? Кто такого здесь видел?»
«Да одна дама мне говорила... Там у этого богача мы с нею в Кузнечном вместе дожидали. Грек, говорит, один есть на Невском: тот много помогает».
«Как же это,— спрашиваю,— он за здорово живешь, что ли, помогает?»
«Так,— говорит,— так, просто так помогает, Домна Платоновна».
«Ну, уж это,— говорю,— ты мне, пожалуйста, этого лучше и не ври. Это,— говорю,— сущий вздор».
«Да что же вы,— говорит,— спорите, когда эта дама сама про себя даже рассказывала? Она шесть лет уж не живет с мужем, и всякий раз как пойду, говорит, так пятьдесят рублей».
«Врет,— говорю,— тебе твоя знакомая дама».
«Нет,— говорит,— не врет».
«Врет, врет,— говорю,— и врет. Ни в жизнь этому не поверю, чтобы мужчина женщине пятьдесят рублей даром дал».
«А я,— говорит,— утверждаю вас, что это правда».
«Да ты что ж, сама, что ли,— говорю,— ходила?»
А она краснеет, краснеет, глаз куда деть не знает.
«Да вы,— говорит,— что, Домна Платоновна, думаете? Вы, пожалуйста, ничего такого не думайте! Ему восемьдесят лет. К нему много дам ходят, и он ничего от них не требует».
«Что ж,— говорю,— он красотою, что ли, только вашею освещается?»
«Вашею? Почему же это,— говорит,— вы опять так утверждаете, что как будто и я там была?» А сама так, как розан, и закраснелась.
«Чего ж,— говорю,— не утверждать? разве не видно, что была?»
«Ну так что ж такое, что была? Да, была».
«Что ж, очень,— говорю,— твоему счастию рада, что побывала в хорошем доме».
«Ничего,— говорит,— там нехорошего нет. Я очень просто зашла,— говорит,— к этой даме, что с ним знакома, и рассказала ей свои обстоятельства... Она, разумеется, мне сначала сейчас те же предложения, что и все делают... Я не захотела; ну, она и говорит: «Ну так вот, не хотите ли к одному греку богатому сходить? Он ничего не требует и очень много хорошеньким женщинам помогает. Я вам, говорит, адрес дам. У него дочь на фортепиано учится, так вы будто как учительница придете, но к нему самому ступайте, и ничего, говорит, вас стеснять не будет, а деньги получите». Он, понимаете, Домна Платоновна, он уже очень старый-престарый».
«Ничего,— говорю,— не понимаю».
Она, вижу, на мою недогадливость сердится. Ну, а я уж где там не догадываюсь: я все отлично это понимаю, к чему оно клонит, а только хочу ее стыдом-то этим помучить, чтоб совесть-то ее взяла хоть немножко.
«Ну как,— говорит,— не понимаете?»
«Да так,— говорю,— очень просто не понимаю, да и понимать не хочу».
«Отчего это так?»
«А оттого,— говорю,— что это отврат и противность, тьпфу!» Стыжу ее; а она, смотрю, морг-морг и кидается ко мне на плечи, и целует, и плачучи говорит: «А с чем же я все-таки поеду?»
«Как с чем, мол, поедешь? А с теми деньгами-то, что он тебе дал».
«Да он мне всего,— говорит,— десять рублей дал».
«Отчего так,— говорю,— десять? Как это всем пятьдесят, а тебе всего десять!»
«Черт его знает!» — говорит с сердцем.
И слезы даже у нее от большого сердца остановились.
«А то-то, мол, и есть!.. видно, ты чем-нибудь ему не потрафила. Ах вы,— говорю,— дамки вы этакие, дамки! Не лучше ли, не честнее ли я тебе, простая женщина, советовала, чем твоя благородная посоветовала?»
«Я сама,— говорит,— это вижу».
«Раньше,— говорю,— надо было видеть».
«Что ж я,— говорит,— Домна Платоновна... я же ведь теперь уж и решилась»,— и глаза это в землю тупит.
«На что ж,— говорю,— ты решилась?»
«Что ж,— говорит,— делать, Домна Платоновна, так, как вы говорили... вижу я, что ничего я не могу пособить себе. Если б,— говорит,— хоть хороший человек... »
«Что ж,— говорю, чтоб много ее словами не конфузить,— я,— говорю,— отягощусь, похлопочу, но только уже и ты ж, смотри, сделай милость, не капризничай»,
«Нет,— говорит,— уж куда!..» Вижу, сама давится, а сама твердо отвечает: «Нет,— говорит,— отяготитесь, Домна Платоновна, я не буду капризничать». Узнаю тут от нее, посидевши, что эта подлая Дисленьша ее выгоняет, и то есть не то что выгоняет, а и десять рублей-то, что она, несчастная, себе от грека принесла, уж отобрала у нее и потом совсем уж ее и выгнала и бельишко — какая там у нее была рубашка да перемывашка — и то все обобрала за долг и за хвост ее, как кошку, да на улицу.
«Да знаю,— говорю я,— эту Дисленьшу».
«Она,— говорит,— Домна Платоновна, кажется, просто торговать мною хотела».
«От нее,— отвечаю,— другого-то ничего и не дождешься».
«Я,— говорит,— когда при деньгах была, я ей не раз помогала, а она со мной так обошлась, как с последней».
«Ну, душечка,— говорю,— нынче ты благодарности в людях лучше и не ищи. Нынче, чем ты кому больше добра делай, тем он только готов тебе за это больше напакостить. Тонет, так топор сулит, а вынырнет, так и топорища жаль».
Рассуждаю этак с ней и ни-и-и думаю того, что она сама, шельма эта Леканида Петровна, как мне за все отблагодарит.
Домна Платоновна вздохнула.
— Вижу, что она все это мнется да трется,— продолжала Домна Платоновна,— и говорю: «Что ты хочешь сказать-то? Говори — лишних бревен никаких нет: в квартал надзирателю доносить некому».
«Когда же?» — спрашивает.
«Ну,— говорю,— мать моя, надо подождать: это тоже шах-мах не делается».
«Мне,— говорит,— Домна Платоновна, деться некуда».
А у меня — вот ты как зайдешь когда-нибудь ко мне, я тебе тогда покажу — есть такая каморка, так, маленькая такая, вещи там я свои, какие есть, берегу, и если случится какая тоже дамка, что места ищет иногда или случая какого дожидается, так в то время отдаю. На эту пору каморочка у меня была свободна. «Переходи,— говорю,— и живи».
Переход ее весь в том и был, что в чем пришла, в том и осталась: все Дисленьша, мерзавка, за долги забрала.
Ну, видя ее бедность, я дала ей тут же платье — купец один мне дарил: чудное платье, крепрошелевое, не то шикшинетеневое, так как-то материя-то эта называлась,— но только узко оно мне в лифике было. Шитвица-пакостница не потрафила, да я, признаться, и не люблю фасонных платьев, потому сжимают они очень в грудях, я все вот в этаких капотах хожу.
Ну, дала я ей это платье, дала кружевцов; перешила она это платьишко, отделала его кое-где кружевцами, и чудесное еще платьице вышло. Пошла я, сударь мой, в штинбоков пассаж, купила ей полсапожки, с кисточками такими, с бахромочкой, с каблучками; дала ей воротничков, манишечку — ну, одним словом, нарядила молодца, яко старца; не стыдно ни самой посмотреть, ни людям показать. Даже сама я не утерпела, пошутила ей: «Франтишка,— говорю,— ты какая! умеешь все как к лицу сделать».
Живем мы после этого вместе неделю, живем другую, все у нас с нею отлично: я по своим делам, а она дома остается. Вдруг тут-то дело мне припало к одной не то что к дамке, а к настоящей барыне, и немолодая уж барыня, а такая-то, прости господи!.. звезда восточная. Студента все к сыну в гувернеры искала. Ну, уж я знаю, какого ей надо студента.
«Чтоб был,— говорит,— опрятный; чтоб не из этих, как вот шляются — сицилисты,— они не знают небось, где и мыло продается».
«На что ж,— говорю,— из этих? Куда они годятся!»
«И,— говорит,— чтоб в возрасте был, а не дитею бы смотрел; а то дети его и слушаться не будут».
«Понимаю, мол, все».
Отыскала я студента: мальчонко молоденький, но этакий штуковатый и чищеный, все сразу понимает. Иду-с я теперь с этим делом к этой даме; передала ей адрес; говорю: так и так, тогда, и тогда будет, и извольте его посмотреть, а что такое если не годится — другого, говорю, найдем, и сама ухожу. Только иду это с лестницы, а в швейцарской генерал мне навстречу и вот он. И этот самый генерал, надо тебе сказать, хоть он и штатский, но очень образованный. В доме у него роскошь такой: зеркала, ланпы, золото везде, ковры, лакеи в перчатках, везде это духами накурено. Одно слово, свой дом, и живут в свое удовольствие; два этажа сами занимают: он, как взойдешь из швейцарской, сейчас налево; комнат восемь один живет, а направо сейчас другая такая ж половина, в той сын старший, тоже женатый уж года с два. На богатой тоже женился, и все как есть в доме очень ее хвалят, говорят — предобрая барыня, только чахотка, должно, у нее — очень уж худая. Ну, а наверху, сейчас по этакой лестнице — широкая-преширокая лестница и вся цветами установлена — тут сама старуха, как тетеря на токовище, сидит с меньшенькими детьми, и гувернеры-то эти там же. Ну, знаешь уж, как на большую ногу живут!
Встретил меня генерал и говорит: «Здравствуй, Домна Платоновна!» — Превежливый барин.
«Здравствуйте,— говорю,— ваше превосходительство».
«У жены, что ль, была?» — опрашивает.
«Точно так,— говорю,— ваше превосходительство, у супруги вашей, у генеральши была; кружевца,— говорю,— старинные приносила».
«Нет ли,— говорит,— у тебя чего, кроме кружевцов, хорошенького?»
«Как,— говорю,— не быть, ваше превосходительство! Для хороших,— говорю,— людей всегда на свете есть что-нибудь хорошее».
«Ну, пойдем-ка,— говорит,— пройдемся; воздух,— говорит,— нынче очень свежий».
«Погода,— отвечаю,— отличная, редко такой и дождешься».
Он выходит на улицу, и я за ним, а карета сзади нас по улице едет. Так вместе по Моховой и идем — ей-богу правда. Препростодушный, говорю тебе, барин!
«Что ж,— спрашивает,— чем же ты это нынче, Домна Платоновна, мне похвалишься?»
«А уж тем, мол, ваше превосходительство, похвалюсь, что могу сказать, что редкость».
«Ой ли, правда?» — опрашивает — не верит, потому что он очень и опытный — постоянно все по циркам да по балетам и везде страшно по этому предмету со вниманием следит.
«Ну, уж хвалиться,— говорю,— вам, сударь, не стану, потому что, кажется, изволите знать, что я попусту врать на ветер не охотница, а вы, когда вам угодно, извольте,— говорю,— пожаловать. Гляженое лучше хваленого».
«Так не лжешь,— говорит,— Домна Платоновна, стоящая штучка?»
«Одно слово,— отвечаю ему я,— ваше превосходительство, больше и говорить не хочу. Не такой товар, чтоб еще нахваливать».
«Ну, посмотрим,— говорит,— посмотрим».
«Милости,— говорю,— просим. Когда пожалуете?»
«Да как-нибудь на этих днях,— говорит,— вероятно, заеду».
«Нет,— говорю,— ваше превосходительство, вы извольте назначить как наверное, так,— говорю,— и ждать будем; а то я,— говорю,— тоже дома не сижу: волка, мол, ноги кормят».
«Ну, так я,— говорит,— послезавтра, в пятницу из присутствия заеду».
«Очень хорошо,— говорю,— я ей скажу, чтоб дожидалась».
«А у тебя,— спрашивает,— тут в узелке-то что-нибудь хорошенькое есть?»
«Есть,— говорю,— штучка шелковых кружев черных, отличная. Половину,— солгала ему,— половину,— говорю,— ваша супруга взяли, а половина,— говорю,— как раз на двадцать рублей осталась».
«Ну, передай,— говорит,— ей от меня эти кружева: скажи, что добрый гений ей посылает»,— шутит это, а сам мне двадцать пять рублей бумажку подает, и сдачи, говорит, не надо: возьми себе на орехи.
Довольно тебе, что и в глаза ее не видавши, этакой презент.
Сел он в карету тут у Семионовского моста и поехал, а я Фонталкой по набережной да и домой.
«Вот,— говорю,— Леканида Петровна, и твое счастье нашлось».
«Что,— говорит,— такое?»
А я ей все по порядку рассказываю: хвалю его, знаешь, ей, как ни быть лучше: хотя, говорю, и в летах, но мужчина видный, полный, белье, говорю, тонкое носит, в очках, сказываю, золотых; а она вся так и трясется.
«Нечего,— говорю,— мой друг, тебе его бояться: может быть, для кого-нибудь другого он там по чину своему да по должности пускай и страшен, а твое,— говорю,— дело при нем будет совсем особливое; еще ручки, ножки свои его целовать заставь. Им,— говорю,— одна дамка-полячка (я таки ее с ним еще и познакомила) как хотела помыкала и амантов,— говорю,— имела, а он им еще и отличные какие места подавал, все будто заместо своих братьев она ему их выдавала. Положись на мое слово и ничуть его не опасайся, потому что я его отлично знаю. Эта полячка, бывало, даже руку на него поднимала: сделает, бывало, истерику, да мах его рукою по очкам; только стеклышки зазвенят. А твое воспитание ничуть не ниже. А вот,— говорю,— тебе от него пока что и презентик»,— вынула кружева да перед ней и положила.
Прихожу опять вечером домой, смотрю — она сидит, чулок себе штопает, а глаза такие заплаканные; гляжу, и кружева мои на том же месте, где я их положила.
«Прибрать бы,— говорю,— тебе их надо; вон хоть в комоду,— говорю,— мою что ли бы положила; это вещь дорогая».
«На что,— говорит,— они мне?»
«А не нравятся, так я тебе за них десять рублей деньги ворочу»;
«Как хотите»,— говорит. Взяла я эти кружева, смотрю, что все целы,— свернула их как должно, и так, не мерявши, в свой саквояж и положила.
«Вот,— говорю,— что ты мне за платье должна — я с тебя лишнего не хочу,— положим за него хоть семь рублей, да за полсапожки три целковых, вот,— говорю,— и будем квиту, а остальное там, как сочтемся».
«Хорошо»,— говорит,— а сама опять плакать.
«Плакать-то теперь бы,— говорю,— не следовало».
А она мне отвечает:
«Дайте,— говорит,— мне, пожалуйста, мои последние слезы выплакать. Что вы,— говорит,— беспокоитесь?— не бойтесь, понравлюсь!»
«Что ж,— говорю,— ты, матушка, за мое же добро да на меня же фыркаешь? Тоже,— говорю,— новости: у Фили пили, да Филю ж и били!»
Взяла да и говорить с ней перестала.
Прошел четверг, я с ней не говорила. В пятницу напилась чаю, выхожу и говорю: «Изволь же,— говорю,— сударыня, быть готова: он нынче приедет».
Она как вскочит: «Как нынче! как нынче!»
«А так,— говорю,— чай, сказано тебе было, что он обещался в пятницу, а вчера, я думаю, был четверг».
«Голубушка,— говорит,— Домна Платоновна!» — пальцы себе кусает, да бух мне в ноги.
«Что ты,— говорю,— сумасшедшая? Что ты?»
«Спасите!»
«От чего,— говорю,— от чего тебя спасать-то?»
«Защитите! Пожалейте!»
«Да что ты,— говорю,— блажишь? Не сама ли же,— говорю,— ты просила?»
А она опять берет себя руками за щеки да вопит: «Душечка, душечка, пусть завтра, пусть,— говорит,— хоть послезавтра!»
Ну, вижу, нечего ее, дуру, слушать, хлопнула дверью и ушла. Приедет, думаю, он сюда — сами поладят. Не одну уж такую-то я видела: все они попервоначалу благи бывают. Что ты на меня так смотришь? Это, поверь, я правду говорю: все так-то убиваются.
— Продолжайте,— говорю,— Домна Платоновна.
— Что ж, ты думаешь, она, поганка, сделала?
— А кто ее знает, что ее черт угораздил сделать!— сорвалось у меня со злости.
— Уж именно правда твоя, что черт ее угораздил,— отвечала с похвалою моей прозорливости Домна Платоновна.— Этакого человека, этакую вельможу, она, шельмовка этакая, и в двери не пустила!.. Стучал-стучал, звонил-звонил — она тебе хоть бы ему голос какой подала. Вот ведь какая хитростная — на что отважилась! Сидит запершись, словно ее и духу там нет. Захожу я вечерком к нему — сейчас меня впустили — и спрашиваю: «Ну что,— говорю,— обманула я вас, ваше превосходительство?» — а он туча-тучей. Рассказывает мне все, как он был и как ни с чем назад пошел.
«Этак,— говорит,— Домна Платоновна, любезная моя, с порядочными людьми не поступают».
«Батюшка,— говорю,— да как это можно! верно,— говорю,— она куда на минутую выходила или что такое — не слыхала»,— ну, а сама себе думаю: «Ах ты, варварка! ах ты, злодейка этакая! страмовщица ты!»
«Пожалуйте,— прошу его,— ваше превосходительство, завтра — верно вам ручаюсь, что все будет как должно».
Да ушедши-то от него домой, да бегом, да бегом. Прибегаю, кричу:
«Варварка! варварка! что ж ты это, варварка, со мной наделала? С каким ты меня человеком, может быть, расстроила? Ведь ты,— говорю,— сама со всей твоей родней-то да и с целой губернией-то с вашей и сапога его одного отоптанного не стоишь! Он,— говорю,— в прах и в пепел всех вас и все начальство-то ваше истереть одной ногой может. Чего ж ты, бездельница этакая, модничаешь? Даром я, что ли, тебя кормлю? Я бедная женщина; я на твоих же глазах день и ночь постоянно отягощаюсь; я на твоих же глазах веду самую прекратительную жизнь, да еще ты,— говорю,— щелчок ты этакой, нахлебница навязалась!»
И как уж я ее тут-то ругала! Как страшно я ее с сердцов ругала, что ты не поверишь. Кажется б вот взяла я да глаза ей в сердцах повыцарапала.
Домна Платоновна сморгнула набежавшую на один глаз слезу и проговорила между строк: «Даже теперь жалко, как вспомню, как я ее тогда обидела».
«Гольтепа ты дворянская!— говорю ей,— вон от меня! вон, чтоб и дух твой здесь не пах!» — и даже за рукав ее к двери бросила.— Ведь вот, ты скажи, что? с сердцов человек иной раз делает: сама назавтра к ней такого грандеву пригласила, а сама ее нынче же вон выгоняю! Ну, а она — на эти мои слова сейчас и готова — и к двери.
У меня уж было и сердце все проходить стало, как она все это стояла-то да молчала, а уж как она по моему по последнему слову к двери даже обернулась, я опять и вскипела.
«Куда, куда,— говорю,— такая-сякая, ты летишь?»
Уж и сама даже не помню, какими ее словами опять изругала.
«Оставайся,— говорю,— не смей ходить!..»
«Нет, я,— говорит,— пойду».
«Как пойдешь? как ты смеешь идтить?»
«Что ж,— говорит,— вы, Домна Платоновна, на меня сердитесь, так лучше же мне уйти».
«Сержусь!— говорю.— Нет, я мало что на тебя сержусь, я тебя буду бить».
Она вскрикнула, да в дверь, а я ее за ручку, да назад, да тут-то сгоряча оплеух с шесть таки горячих ей и закатила.
«Воровка ты,— говорю,— а не дама»,— кричу на нее; а она стоит в уголке, как я ее оттрепала, и вся, как клёнов лист, трясется, но я тут, заметь, свою анбицию дворянскую почувствовала.
«Что ж,— говорит,— такое я у вас украла?»
«Космы-то,— говорю,— патлы-то свои подбери,— потому я ей всю прическу расстроила.— То,— говорю,— ты у меня украла, что я тебя, варварку, поила-кормила две недели; обула-одела тебя; я,— говорю,— на всякий час отягощаюсь, я веду прекратительную жизнь, да еще через тебя должна куска хлеба лишиться, как ты меня с таким человеком поссорила!»
Смотрю, она потихоньку косы свои опять в пучок подвернула, взяла в ковшик холодной воды — умылась; голову расчесала и села. Смирно сидит у окошечка, только все жестяное зеркальце потихонечку к щекам прикладывает. Я будто не смотрю на нее, раскладываю по столу кружева, а сама вижу, что щеки-то у нее так и горят.
«Ах,— думаю,— напрасно ведь это я, злодейка, так уж очень ее обидела!»
Все, что стою над столом да думаю — то все мне ее жалче; что стою думаю — то все жалче..
Ахти мне, горе с моим добрым сердцем! Никак я с своим сердцем не совладаю. И досадно, и знаю, что она виновата и вполне того заслужила, а жалко.
Выскочила я на минуточку на улицу — тут у нас, в нашем же доме, под низом кондитерская,— взяла десять штунек песочного пирожного и прихожу; сама поставила самовар; сама чаю чашку ей налила и подаю с пирожным. Она взяла из моих рук чашку и пирожное взяла, откусила кусочек, да меж зубов и держит. Кусочек держит, а сама вдруг улыбается, улыбается, и весело улыбается, а слезы кап-кап-кап, так и брызжут; таки вот просто не текут, а как сок из лимона, если подавишь, брызжут.
«Полно,— говорю,— не обижайся».
«Нет,— говорит,— я ничего, я ничего, я ничего... » — да как зарядила это: «я ничего» да «я ничего» — твердит одно, да и полно.
«Господи!— думаю,— уж не сделалось ли ей помрачение смыслов?» Водой на нее брызнула; она тише, тише и успокоилась: села в уголку на постелишке и сидит. А меня все, знаешь, совесть мутит, что я ее обидела. Помолилась я богу — прочитала, как еще в Мценске священник учил от запаления ума: «Благого царя благая мати, пречистая и чистая»,— и сняла с себя капотик, и подхожу к ней в одной юбке, и говорю: «Послушай ты меня, Леканида Петровна! В писании читается: «да не зайдет солнце во гневе вашем»; прости же ты меня за мою дерзость; давай помиримся!» — поклонилась ей до земли и взяла ее руку поцеловала: вот тебе, ей-богу, как завтрашний день хочу видеть, так поцеловала. И она, смотрю, наклоняется ко мне и в плечо меня чмок, гляжу — и тоже мою руку поцеловала, и сами мы между собою обе друг дружку обняли и поцеловались.
«Друг мой,— говорю,— ведь я не со злости какой или не для своей корысти, а для твоего же добра!» — толкую ей и по головке ее ласкаю, а она все этак скороговоркой:
«Хорошо, хорошо; благодарю вас, Домна Платоновна, благодарю».
«Вот он,— говорю,— завтра опять приедет».
«Ну что ж,— говорит,— ну что ж! очень хорошо, пусть приезжает».
Я ее опять по головке глажу, волоски ей за ушко заправляю, а она сидит и глазком с ланпады не смигнет. Ланпад горит перед образами таково тихо, сияние от икон на нее идет, и вижу, что она вдруг губами все шевелит, все шевелит.
«Что ты,— спрашиваю,— душечка, богу это, что ли, молишься?»
«Нет,— говорит,— это я, Домна Платоновна, так».
«Что ж,— говорю,— я думала, что ты это молишься, а так самому с собой разговаривать, друг мой, не годится. Это только одни помешанные сами с собою разговаривают».
«Ах,— отвечает она мне,— я,— говорит,— Домна Платоновна, уж и сама думаю, что я, кажется, помешанная. На что я только иду! на что я это иду!» — заговорила она вдруг, и в грудь себя таково изо всей силы ударяет.
«Что ж,— говорю,— делать? Так тебе, верно, путь такой тяжелый назначен».
«Как,— говорит,— такой мне путь назначен? Я была честная девушка! я была честная жена! Господи! господи! да где же ты? Где же, где бог?»
«Бога,— говорю,— читается, друг мой, никто же виде и нигде же».
«А где же есть сожалительные, добрые христиане? Где они? где?»
«Да здесь,— говорю,— и христиане».
«Где?»
«Да как где? Вся Россия — всё христиане, и мы с тобой христианки».
«Да, да,— говорит,— и мы христианки... » — и сама, вижу, эти слова выговаривает и в лице страшная становится. Словно она с кем с невидимым говорит.
«Фу,— говорю,— да сумасшедшая ты, что ли, в самом деле? что ты меня пужаешь-то? что ты ропот-то на создателя своего произносишь?»
Смотрю: сейчас она опять смирилась, плачет опять тихо и рассуждает:
«Из-за чего,— говорит,— это я только все себе наделала? Каких я людей слушала? Разбили меня с мужем; натолковали мне, что он и тиран и варвар, когда это совсем неправда была, когда я, я сама, презренная и низкая капризница, я жизнь его отравляла, а не покоила. Люди! подлые вы люди! сбили меня; насулили мне здесь горы золотые, а не сказали про реки огненные. Муж меня теперь бросил, смотреть на меня не хочет, писем моих не читает. А завтра я... бррр... х!»
Вся даже задрожала.
«Маменька!— стала звать,— маменька! если б ты меня теперь, душечка, видела? Если б ты, чистенький ангел мой, на меня теперь посмотрела из своей могилки? Как она нас, Домна Платоновна, воспитывала! Как мы жили хорошо; ходили всегда чистенькие; все у нас в доме было такое хорошенькое; цветочки мама любила; бывало,— говорит,— возьмет за руки и пойдем двое далеко... в луга пойдем... »
Тут-то, знаешь ты, сон у меня удивительный — слушала я, как это хорошо все она вспоминает, и заснула.
Ну, представь же ты теперь себе: сплю это; заснула у нее, на ее постеленке, и как пришла к ней, совсем даже в юбке заснула, и опять тебе говорю, что сплю я свое время крепко, и снов никогда никаких не вижу, кромя как разве к какому у меня воровству; а тут все это мне видятся рощи такие, палисадники и она, эта Леканида Петровна. Будто такая она маленькая, такая хорошенькая: головка у нее русая, вся в кудряшках, и носит она в ручках веночек, а за нею собачка, такая беленькая собачка, и все на меня гам-гам, гам-гам — будто сердится и укусить меня хочет. Я будто нагинаюсь, чтоб поднять палочку, чтоб эту собачку от себя отогнать, а из земли вдруг мертвая ручища: хвать меня вот за самое за это место, за кость. Вскинулась я, смотрю — свое время я уж проспала, и руку страсть как неловко перележала. Ну, оделась я, помолилась богу и чайку напилась, а она все спит.
«Пора,— говорю,— Леканида Петровна, вставать; чай,— говорю,— на конфорке стоит, а я, мой друг, ухожу».
Поцеловала ее на постели в лоб, истинно говорю тебе, как дочь родную жалеючи, да из двери-то выходя, ключик это потихоньку вынула да в карман.
«Так-то,— думаю,— дело честнее будет».
Захожу к генералу и говорю: «Ну, ваше превосходительство, теперь дело не мое. Я свое сделала — пожалуйте поскорей»,— и ему отдала ключ.
— Ну-с,— говорю,— милая Домна Платоновна, не на этом же все кончилось?
Домна Платоновна засмеялась и головой закачала с таким выражением, что смешны, мол, все люди на белом свете.
— Прихожу я домой нарочно попозже, смотрю — огня нет.
«Леканида Петровна!» — зову.
Слышу, она на моей постели ворочается.
«Спишь?» — спрашиваю; а самое меня, знаешь, так смех и подмывает.
«Нет, не сплю»,— отвечает.
«Что ж ты огня, мол, не засветишь?»
«На что ж он мне,— говорит,— огонь?»
Зажгла я свечу, раздула самоваришку, зову ее чай пить.
«Не хочу,— говорит,— я»,— а сама все к стенке заворачивается.
«Ну, по крайности,— говорю,— встань же, хоть на свою постель перейди: мне мою постель надо поправить».
Вижу, поднимается, как волк угрюмый. Взглянула исподлобья на свечу и глаза рукой заслоняет.
«Что ты,— спрашиваю,— глаза закрываешь?»
«Больно,— отвечает,— на свет смотреть».
Пошла, и слышу, как была опять совсем в платье одетая, так и повалилась.
Разделась и я как следует, помолилась богу, но все меня любопытство берет, как тут у них без меня были подробности? К генералу я побоялась идти: думаю, чтоб опять афронта какого не было, а ее спросить даже следует, но она тоже как-то не допускает. Дай, думаю, с хитростью к ней подойду. Вхожу к ней в каморку и спрашиваю:
«Что, никого,— говорю,— тут, Леканида Петровна, без меня не было?»
Молчит.
«Что ж,— говорю,— ты, мать, и ответить не хочешь?»
А она с сердцем этак: «Нечего,— говорит,— вам меня расспрашивать».
«Как же это,— говорю,— нечего мне тебя расспрашивать? Я хозяйка».
«Потому,— говорит,— что вы без всяких вопросов очень хорошо все знаете»,— и это, уж я слышу, совсем другим тоном говорит.
Ну, тут я все дело, разумеется, поняла.
Она только вздыхает; и пока я улеглась и уснула — все вздыхает.
— Это,— говорю,— Домна Платоновна, уж и конец?
— Это первому действию, государь мой, конец.
— А во втором-то что же происходило?
— А во втором она вышла против меня мерзавка — вот что во втором происходило.
— Как же,— спрашиваю,— это, Домна Платоновна, очень интересно, как так это сделалось?
— А так, сударь мой, и сделалось, как делается: силу человек в себе почуял, ну сейчас и свиньей стал.
— И вскоре,— говорю,— это она так к вам переменилась?
— Тут же таки. На другой день уж всю это свою козью прыть показала. На другой день я, по обнаковению, в свое время встала, сама поставила самовар и села к чаю около ее постели в каморочке, да и говорю: «Иди же,— говорю,— Леканида Петровна, умывайся да богу молись, чай пора пить». Она, ни слова не говоря, вскочила и, гляжу, у нее из кармана какая-то бумажка выпала. Нагинаюсь я к этой бумажке, чтоб поднять ее, а она вдруг сама, как ястреб, на нее бросается.
«Не троньте!» — говорит, и хап ее в руку.
Вижу, бумажка сторублевая.
«Что ж ты,— говорю,— так, матушка, рычишь?»
«Так хочу, так и рычу».
«Успокойся,— говорю,— милая; я, слава богу, не Дисленьша, в моем доме никто у тебя твоего добра отнимать не станет».
Ни слова она мне в ответ не сказала: мой чай пьет и на меня ж глядеть не хочет; возьми ты это, хоть кому-нибудь доведися — станет больно. Ну, однако, я ей это спустила, думала, что она это еще в расстройке, и точно, вижу, что как это ворот-то у нее в рубашке широкий, так видно, знаешь, как грудь-то у ней так вот и вздрагивает, и на что, я тебе сказывала, была она собою телом и бела и розовая, точно пух в атласе, а тут, знаешь, будто вдруг она какая-то темная мне показалась телом, и всё у нее по голым плечам-то сиротки вспрыгивают, пупырышки эти такие, что вот с холоду когда выступают. Холеной неженке первый снежок труден. Я ее даже молча и пожалела еще, и никак себе не воображала, какая она ехидная.
Вечером прихожу; гляжу — она сидит перед свечкой и рубашку себе новую шьет, а на столе перед ней еще так три, не то четыре рубашки лежат прикроенные.
«Почем,— спрашиваю,— брала полотно?»
А она этак тихо-тихохонько мне вот что отвечает:
«Я,— говорит,— Домна Платоновна, желала вас просить: оставьте вы меня, пожалуйста, с вашими разговорами».
Смотрю, вид у нее такой покойный, будто совсем и не сердится. «Ну,— думаю,— матушка, когда ты такая, так и я же к тебе стану иная».
«Я,— говорю ей,— Леканида Петровна, в своем доме хозяйка и все говорить могу; а тебе если мои разговоры неприятны, так не угодно ли,— говорю,— отправляться куда угодно».
«И не беспокойтесь,— говорит,— я и отправлюсь».
«Только прежде всего надо,— я говорю,— рассчитаться: честные люди не рассчитавшись не съезжают».
«Опять,— говорит,— не беспокойтесь».
«Я,— отвечаю,— не беспокоюсь»,— ну, только считаю ей за полтора месяца за квартиру десять рублей и что пила-ела пятнадцать рублей, да за чай, говорю, положим хоть три целковых, тридцать один целковый, говорю. За свечки тут-то не посчитала, и что в баню с собой два раза ее брала, и то тоже забыла.
«Очень хорошо-с,— отвечает,— все будет вам заплачено».
На другой день вечером ворочаюсь опять домой, застаю ее, что она опять сидит себе рубашку шьет, а на стенке, так насупротив ее, на гвоздике висит этакой бурнус, черный атласный, хороший бурнус, на гроденаплевой подкладке и на пуху. Закипело у меня, знаешь, что все это через меня, через мое радетельство получила, да еще без меня же, словно будто потоймя от меня справляет.
«Бурнусы-то,— говорю,— можно б, мне кажется, погодить справлять, а прежде б с долгами расчесться».
Она на эти мои слова сейчас опущает белу рученьку в карман; вытаскивает оттуда бумажку и подает. Смотрю, в этой бумажке аккурат тридцать и один целковый.
Взяла я деньги и говорю: «Благодарствуйте,— говорю,— Леканида Петровна». Уж «вы» ей, знаешь, нарочно говорю.
«Не за что-с,— отвечает,— а сама и глаз на меня даже с работы не вскинет; все шьет, все шьет; так игла-то у нее и летает.
«Постой же,— думаю,— змейка ты зеленая; не очень еще ты чванься, что ты со мною расплатилась».
«Это,— говорю,— Леканида Петровна, вы мне мои расходы вернули, а что ж вы мне за мои за хлопоты пожалуете?»
«За какие,— спрашивает,— за хлопоты?»
«Как же,— говорю,— я вам стану объяснять? сами, чай, понимаете».
А она это шьет, наперстком-то по рубцу водит, да и говорит, не глядя: «Пусть,— говорит,— вам за эти ваши милые хлопоты платит тот, кому они были нужны».
«Да ведь вам,— говорю,— они больше всех нужны-то были».
«Нет, мне,— говорит,— они не были нужны. А впрочем, сделайте милость, оставьте меня в покое».
Довольно с тебя этой дерзости! Но я и ею пренебрегла. Пренебрегла и оставила, и не говорю с нею, и не говорю.
Только наутро, где бы пить чай, смотрю — она убралась; рубашку эту, что ночью дошила, на себя надела, недошитые свернула в платочек; смотрю, нагинается, из-под кровати вытащила кордонку, шляпочку оттуда достает... Прехорошенькая шляпочка... все во всем ее вкусе... Надела ее и говорит: «Прощайте, Домна Платоновна».
Жаль мне ее опять тут, как дочь родную, стало: «Постой же,— говорю ей,— постой, хоть чаю-то напейся!»
«Покорно благодарю,— отвечает,— я у себя буду пить чай».
Понимай, значит,— то, что у себя! Ну, бог с тобой, я и это мимо ушей пустила.
«Где ж,— говорю,— ты будешь жить?»
«На Владимирской,— говорит,— в Тарховом доме».
«Знаю,— говорю,— дом отличный, только дворники большие повесы».
«Мне,— говорит,— до дворников дела нет».
«Разумеется,— говорю,— мой друг, разумеется! Комнатку себе, что ли, наняла?»
«Нет,— отвечает,— квартиру взяла, с кухаркой буду жить».
Вон, вижу, куда заиграло! «Ах ты, хитрая!— говорю,— хитрая!— шутя на нее, знаешь, пальцем грожусь.— Зачем же,— говорю,— ты меня обманывала-то, говорила, что к мужу-то поедешь?»
«А вы,— говорит,— думаете, что я вас обманывала?»
«Да уж,— отвечаю,— что тут думать! когда б имела желание ехать, то, разумеется, не нанимала б тут квартиры».
«Ах,— говорит,— Домна Платоновна, как мне вас жалко! ничего вы не понимаете».
«Ну,— говорю,— уж не хитри, душечка! Вижу, что ты умно обделала дельце».
«Да вы,— говорит,— что это толкуете! Разве такие мерзавки, как я, к мужьям ездят?»
«Ах, мать ты моя! что ты это,— отвечаю,— себя так уж очень мерзавишь! И в пять раз мерзавней тебя, да с мужьями живут».
А она, уж совсем это на пороге-то стоючи, вдруг улыбнулась, да и говорит: «Нет, извините меня, Домна Платоновна, я на вас сердилась; ну, а вижу, что на вас нельзя сердиться, потому что вы совсем глупы».
Это вместо прощанья-то! нравится это тебе? «Ну,— подумала я ей вслед,— глупа-неглупа, а, видно, умней тебя, потому, что я захотела, то с тобой, с умницей, с воспитанной, и сделала».
Так она от меня сошла, не то что с ссорою, а все как с небольшим удовольствием. И не видала я ее с тех пор, и не видала, я думаю, больше как год. В это-то время у меня тут как-то работку бог давал: четырех купцов я женила; одну полковницкую дочь замуж выдала; одного надворного советника на вдове, на купчихе, тоже женила, ну и другие разные дела тоже перепадали, а тут это товар тоже из своего места насылали — так время и прошло. Только вышел тут такой случай: была я один раз у этого самого генерала, с которым Леканидку-то познакомила: к невестке его зашла. С сыном-то с его я давно была знакома: такой тоже весь в отца вышел. Ну, прихожу я к невестке, мантиль блондовую она хотела дать продать, а ее и нет: в Воронеж, говорят, к Митрофанию угоднику поехала.
«Зайду,— думаю,— по старой памяти к барину».
Всхожу с заднего хода, никого нет. Я потихонечку топы-топы, да одну комнать прошла и другую, и вдруг, сударь ты мой, слышу Леканидкин голос: «Шарман мой!— говорит,— я,— говорит,— люблю тебя; ты одно мое счастье земное!»
«Отлично,— думаю,— и с папенькой и с сыночком романсы проводит моя Леканида Петровна», да сама опять топы-топы да теми же пятами вон. Узнаю-поузнаю, как это она познакомилась с этим, с молодым-то,— аж выходит, что жена-то молодого сама над нею сжалилась, навещать ее стала потихоньку, все это, знаешь, жалеючи ее, что такая будто она дамка образованная да хорошая; а она, Леканидка, ей, не хуже как мне, и отблагодарила. Ну, ничего, не мое это, значит, дело; знаю и молчу; даже еще покрываю этот ее грех, и где следует виду этого не подаю, что знаю. Прошло опять чуть не с год ли. Леканидка в ту пору жила в Кирпичном переулке. Собиралась я это на средокрестной неделе говеть и иду этак по Кирпичному переулку, глянула на дом-то да думаю: как это нехорошо, что мы с Леканидой Петровной такое время поссорившись; тела и крови готовясь принять — дай зайду к ней, помирюсь! Захожу. Парад такой в квартире, что лучше требовать нельзя. Горничная — точно как барышня.
«Доложите,— говорю,— умница, что, мол, кружевница Домна Платоновна желает их видеть».
Пошла и выходит, говорит: «Пожалуйте».
Вхожу в гостиную; таково тоже все парадно, и на диване сидит это сама Леканидка и генералова невестка с ней: обе кофий кушают. Встречает меня Леканидка будто и ничего, будто со вчера всего только не видались.
Я тоже со всей моей простотой: «Славно,— говорю,— живешь, душечка; дай бог тебе и еще лучше».
А она с той что-то вдруг и залопотала по-французски. Не понимаю я ничего по-ихнему. Сижу, как дура, глазею по комнате, да и зевать стала.
«Ах,— говорит вдруг Леканидка,— не хотите ли вы, Домна Платоновна, кофию?»
«Отчего ж,— говорю,— позвольте чашечку».
Она это сейчас звонит в серебряный колокольчик и приказывает, своей девке: «Даша,— говорит,— напойте Домну Платоновну кофием».
Я, дура, этого тогда сразу-то и не поняла хорошенько, что такое значит напойте; только смотрю, так минут через десять эта самая ее Дашка входит опять и докладывает: «Готово,— говорит,— сударыня».
«Хорошо,— говорит ей в ответ Леканидка, да и оборачивается ко мне: — Подите,— говорит,— Домна Платоновна: она вас напоит».
Ух, уж на это меня взорвало! Сверзну я ее, подумала себе, но удержалась. Встала и говорю: «Нет, покорно вас благодарю, Леканида Петровна, на вашем угощении. У меня,— говорю,— хоть я и бедная женщина, а у меня и свой кофий есть».
«Что ж,— говорит,— это вы так рассердились?»
«А то,— прямо ей в глаза говорю,— что вы со мной мою хлеб-соль вместе кушивали, а меня к своей горничной посылаете: так это мне, разумеется, обидно».
«Да моя,— говорит,— Даша — честная девушка; ее общество вас оскорблять не может»,— а сама будто, показалось мне, как улыбается.
«Ах ты, змея,— думаю,— я тебя у сердца моего пригрела, так ты теперь и по животу ползешь!» «Я,— говорю,— у этой девицы чести ее нисколько не снимаю, ну только не вам бы,— говорю,— Леканида Петровна, меня с своими прислугами за один стол сажать».
«А отчего это,— спрашивает,— так, Домна Платоновна, не мне?»
«А потому,— говорю,— матушка, что вспомни, что ты была, и посмотри, что ты есть и кому ты всем этим обязана».
«Очень,— говорит,— помню, что была я честной женщиной, а теперь я дрянь и обязана этим вам, вашей доброте, Домна Платоновна».
«И точно,— отвечаю,— речь твоя справедлива, прямая ты дрянь. В твоем же доме, да ничего не боясь, в глаза тебе эти слова говорю, что ты дрянь. Дрянь ты была, дрянь и есть, а не я тебя дрянью сделала».
А сама, знаешь, беру свой саквояж.
«Прощай,— говорю,— госпожа великая!»
А эта генеральская невестка-то чахоточная как вскочит, дохлая: «Как вы,— говорит,— смеете оскорблять Леканиду Петровну!»
«Смею,— говорю,— сударыня!»
«Леканида Петровна,— говорит,— очень добра, но я, наконец, не позволю обижать ее в моем присутствии: она мой друг».
«Хорош,— говорю,— друг!»
Тут и Леканидка, гляжу, вскочила да как крикнет: «Вон,— говорит,— гадкая ты женщина!»
«А!— говорю,— гадкая я женщина? Я гадкая, да я с чужими мужьями романсов не провождаю. Какая я ни на есть, да такого не делала, чтоб и папеньку и сыночка одними прелестями-то своими прельщать! Извольте,— говорю,— сударыня, вам вашего друга, уж вполне,— говорю,— друг».
«Лжете,— говорит,— вы! Я не поверю вам, вы это со злости на Леканиду Петровну говорите».
«Ну, а со злости, так вот же,— говорю,— теперь ты меня, Леканида Петровна, извини; теперь,— говорю,— уж я тебя сверзну»,— и все, знаешь, что? слышала, что Леканидка с мужем-то ее тогда чекотала, то все им и высыпала на стол, да и вон.
— Ну-с,— говорю,— Домна Платоновна?
— Бросил ее старик после этого скандала.
— А молодой?
— Да с молодым нешто у нее интерес был какой! С молодым у нее, как это говорится так,— пур-амур любовь шла. Тоже ведь, гляди ты, шушваль этакая, а без любви никак дышать не могла. Как же! нельзя же комиссару без штанов быть. А вот теперь и без любви обходится.
— Вы,— говорю,— почему это знаете, что обходится?
— А как же не знаю! Стало быть, что обходится, когда живет в такой жизни, что нынче один князь, а завтра другой граф; нынче англичанин, завтра итальянец или ишпанец какой. Уж тут, стало, не любовь, а деньги. Бзырит по магазинам да по Невскому в такой коляске лежачей на рысаках катается...
— Ну, так вы с тех пор с нею и не встречаетесь?
— Нет. Зла я на нее не питаю, но не хожу к ней. Бог с нею совсем! Раз как-то на Морской нынче по осени выхожу от одной дамы, а она на крыльцо всходит. Я таки дала ей дорогу и говорю: «Здравствуйте, Леканида Петровна!» — а она вдруг, зеленая вся, наклонилась ко мне, с крылечка-то, да этак к самому к моему лицу, и с ласковой такой миной отвечает: «Здравствуй, мерзавка!»
Я даже не утерпел и рассмеялся.
— Ей-богу! «Здравствуй,— говорит,— мерзавка!» Хотела я ей тут-то было сказать: не мерзавь, мол, матушка, сама ты нынче мерзавка, да подумала, что лакей-то этот за нею, и зонтик у него большой в руках, так уж проходи, думаю, налево, французская королева.
1 - Потому что на этом свете смерть все уничтожит.
И в пышном цветке гнездится червяк. (Перевод автора.)
«Воительница».
Главы: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - Примечания - Аудиокнига |