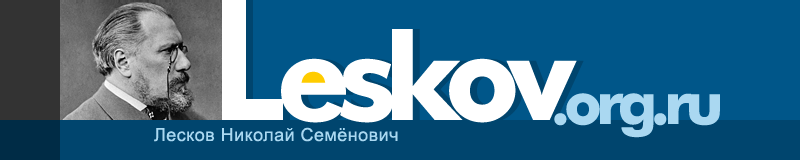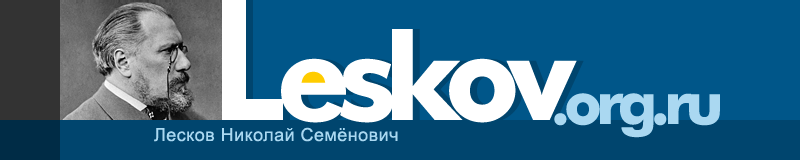|
Воительница.
Глава пятая
«Воительница».
Главы: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - Примечания - Аудиокнига
Был я в Петербурге болен и жил в то время в Коломне. Квартира у меня, как выразилась Домна Платоновна, «была какая-то особенная». Это были две просторные комнаты в старинном деревянном доме у маленькой деревянной купчихи, которая недавно схоронила своего очень благочестивого супруга и по вдовьему положению занялась ростовщичеством, а свою прежнюю опочивальню, вместе с трехспальною кроватью, и смежную с спальней гостиную комнату, с громадным киотом, перед которым ежедневно маливался ее покойник, пустила внаем.
У меня в так называемом зале были: диван, обитый настоящею русской кожей; стол круглый, обтянутый полинявшим фиолетовым плисом с совершенно бесцветною шелковою бахромою; столовые часы с медным арапом; печка с горельефной фигурой во впадине, в которой настаивалась настойка; длинное зеркало с очень хорошим стеклом и бронзовою арфою на верхней доске высокой рамы. На стенах висели: масляный портрет покойного императора Александра I; около него, в очень тяжелых золотых рамах за стеклами, помещались литографии, изображавшие четыре сцены из жизни королевы Женевьевы; император Наполеон по инфантерии и император Наполеон по кавалерии; какая-то горная вершина; собака, плавающая на своей конуре, и портрет купца с медалью на анненской ленте. В дальнем угле стоял высокий, трехъярусный образник с тремя большими иконами с темными ликами, строго смотревшими из своих блестящих золоченых окладов; перед образником лампада, всегда тщательно зажигаемая моею набожной хозяйкой, а внизу под образами шкафик с полукруглыми дверцами и бронзовым кантом наместе створа. Все это как будто не в Петербурге, а будто на Замоскворечье или даже в самом городе Мценске. Спальня моя была еще более мценская; даже мне казалось, что та трехспальная постель, в пуховиках которой я утопал, была не постель, а именно сам Мценск, проживающий инкогнито в Петербурге. Стоило только мне погрузиться в эти пуховые волны, как какое-то снотворное, маковое покрывало тотчас надвигалось на мои глаза и застилало от них весь Петербург с его веселящейся скукой и скучающей веселостью. Здесь, при этой-то успокоивающей мценской обстановке, мне снова довелось всласть побеседовать с Домной Платоновной.
Я простудился, и врач велел мне полежать в постели.
Раз, так часу в двенадцатом серенького мартовского дня, лежу я уже выздоравливающий и, начитавшись досыта, думаю: «Не худо, если бы кто-нибудь и зашел», да не успел я так подумать, как словно с этого моего желания сталось — дверь в мою залу скрипнула, и послышался веселый голос Домны Платоновны:
— Вот как это у тебя здесь прекрасно! и образа и сияние перед божьим благословением — очень-очень даже прекрасно.
— Матушка,— говорю,— Домна Платоновна, вы ли это?
— Да некому,— отвечает,— друг мой, и быть, как не мне.
Поздоровались.
— Садитесь!— прошу Домну Платоновну.
Она села на креслице против моей постели и ручки свои с белым платочком на коленочки положила.
— Чем так хвораешь?— спрашивает.
— Простудился,— говорю.
— А то нынче очень много народу всё на животы жалуются.
— Нет, я,— говорю,— я на живот не жалуюсь.
— Ну, а на живот не жалуешься, так это пройдет. Квартира у тебя нынче очень хороша.
— Ничего,— говорю,— Домна Платоновна.
— Отличная квартира. Я эту хозяйку, Любовь Петровну, давно знаю. Прекрасная женщина. Она прежде была испорчена и на голоса крикивала, да, верно, ей это прошло.
— Не знаю,— говорю,— что-то будто не слышно, не кричит.
— А у меня-то, друг мой, какое горе!— проговорила Домна Платоновна своим жалостным голосом.
— Что такое, Домна Платоновна?
— Ах, такое, дружочек, горе, такое горе, что... ужасное, можно сказать, и горе и несчастье, все вместе. Видишь, вон в чем я нынче товар-то ношу.
Посмотрел я, перегнувшись с кровати, и вижу на столике кружева Домны Платоновны, увязанные в черном шелковом платочке с белыми каемочками.
— В трауре,— говорю.
— Ах, милый, в трауре, да в каком еще трауре-то!
— Ну, а саквояж ваш где же?
— Да вот о нем-то, о саквояже-то, я и горюю. Пропал ведь он, мой саквояж.
— Как,— говорю,— пропал?
— А так, друг мой, пропал, что и по се два дни, как вспомню, так, господи, думаю, неужели ж таки такая я грешница, что ты этак меня испытуешь? Видишь, как удивительно это все случилось: видела я сон; вижу, будто приходит ко мне какой-то священник и приносит каравай, вот как, знаешь, в наших местах из каши из пшенной пекут. «На?, говорит, тебе, раба, каравай».— «Батюшка,— говорю,— на что же мне и к чему каравай?» Так вот видишь, к чему он, этот каравай-то, вышел — к пропаже.
— Как же это,— спрашиваю,— Домна Платоновна, было?
— Было это, друг мой, очень удивительно. Ты знаешь купчиху Кошеверову?
— Нет,— говорю,— не знаю.
— А не знаешь, и не надо. Мы с ней приятельницы, и то есть даже не совсем и приятельницы, потому что она женщина преехидная и довольно даже подлая, ну, а так себе, знаешь, вот вроде как с тобой, знакомы. Зашла я к ней так-то на свое несчастье вечером, да и засиделась. Все она, чтоб ей пусто было совсем, право, посиди да по сиди, Домна Платоновна. Все ведь с жиру-то чем убивалась? что муж ее не ревнует, а чего ревновать, когда с рожи она престрашная и язык у нее такой пребольшущий, как у попугая. Рассказывает, болели у нее зубы, да лекарь велел ей поставить пиявицу врачебную к зубу, а фершалов мальчик ей эту пиявицу к языку припустил, и пошел у нее с тех пор в языке опух. Опять же таки у меня в этот вечер и дело было: к Пяти Углам надо было в один дом сбегать к купцу — жениться тоже хочет; но она, эта Кошевериха, не пущает.
«Погоди,— говорит,— киевской наливочки выпьем, да Фадей Семенович,— говорит,— от всенощной придет, чайку напьемся: куда тебе спешить?»
«Как,— говорю,— мать, куда спешить?»
Ну, а сама все-таки, как на грех, осталась, да это то водочки, то наливочки, так налилась, что даже в голове у меня, чувствую, засточертело.
«Ну,— говорю ей,— извини, Варвара Петровна, очень тебе на твоем угощении благодарна, только уж больше пить не могу».
Она пристает, потчует, а я говорю:
«Лучше, мать моя, и не потчуй. Я свою плипорцию знаю и ни за что больше пить не стану».
«Сожителя,— говорит,— подожди».
«И сожителя,— говорю,— ждать не буду».
Стала на своем, что иду и иду, и только. Потому, знаешь, чувствую, что в голове-то уж у меня чертополох пошел. Выхожу это я, сударь ты мой, за ворота, поворачиваю на Разъезжую и думаю: возьму извозчика. Стоит тут сейчас на угле живейный, я и говорю:
«Что, молодец, возьмешь к Знаменью божей матери?»
«Пятиалтынный».
«Ну, как,— отвечаю ему,— не пятиалтынный! пятачок».
А сама, знаешь, и иду по Разъезжей. Светло везде; фонари горят; газ в магазинах; и пешком, думаю, дойду, если не хочешь, варвар, пятачка взять, этакую близость проехать.
Только вдруг, сударь мой, порх этак передо мною какой-то господин. В пальте, в фуражке это, в калошах, ну одно слово — барин. И откуда это только он передо мною вырос, вот хоть убей ты меня, никак не понимаю.
«Скажите,— говорит,— сударыня (еще сударыней, подлец, назвал), скажите,— говорит,— сударыня, где тут Владимирская улица?»
«А вот,— говорю,— милостивый государь, как прямо-то пойдете, да сейчас будет переулок направо... » — да только это-то выговорила, руку-то, знаешь, поднявши ему указываю, а он дерг меня за саквояж.
«Наше,— говорит,— вам сорок одно да кланяться холодно»,— да и мах от меня.
«Ах,— говорю,— ты варвар! ах, мерзавец ты этакой!» Все это еще за одну надсмешку только считаю. Но с этим словом глядь, а саквояжа-то моего нет.
«Батюшки!— заорала я что было у меня силы, во всю мою глотку.— Батюшки!— ору,— помогите! догоните его, варвара! догоните его, злодея!» И сама-то, знаешь, бегу-натыкаюсь, и людей-то за руки ловлю, тащу: помогите, мол, защитите: саквояж мой сейчас унес какой-то варвар! Бегу, бегу, ажно ноженьки мои стали, а его, злодея, и след простыл. Ну, и то сказать, где ж мне, дыне этакой, его, пса подчегарого, догнать! Обернусь так-то на народ, крикну: «Варвары! что ж вы глазеете! креста на вас нет, что ли?» Ну, бегла, бегла, да и стала. Стала и реву. Так ревма и реву, как дура. Сижу на тунбе, да и реву. Собрался около меня народ, толкует: «Пьяная, должно быть».
«Ах вы, варвары,— говорю,— этакие! Сами вы пьяные, а у меня» саквояж сейчас из рук украдено».
Тут городовой подошел. «Пойдем,— говорит,— тетка, в квартал».
Приводит меня городовой в квартал, я опять закричала.
Смотрю, из двери идет квартальный поручик и говорит:
«Что ты здесь, женщина, этак шумишь?»
«Помилуйте,— говорю,— ваше высокоблагородие, меня так и так сейчас обкрадено».
«Написать,— говорит,— бумагу».
Написали.
«Теперь иди,— говорит,— с богом».
Я пошла.
Прихожу через день: «Что,— говорю,— мой саквояж, ваше благородие?»
«Иди,— говорит,— бумаги твои пошли, ожидай».
Ожидаю я, ожидаю; вдруг в часть меня требуют. Привели в этакую большую комнату, и множество там лежит этих саквояжев. Частный майор, вежливый этакой мужчина и собою красив, узнайте, говорит, ваш саквояж.
Посмотрела я — всё не мои саквояжи.
«Нет-с,— говорю,— ваше высокоблагородие, нет здесь моего саквояжа».
«Выдайте,— приказывает,— ей бумагу».
«А в чем,— спрашиваю,— ваше высокоблагородие, мне будет бумага?»
«В том,— говорит,— матушка, что вас обкрадено».
«Что ж,— докладываю ему,— мне по этой бумаге, ваше высокоблагородие?»
«А что ж, матушка, я вам еще могу сделать?»
Дали мне эту бумагу, что меня точно обкрадено, и идите, говорят, в благочинную управу. Прихожу я нонче в благочинную управу, подаю эту бумагу; сейчас выходит из дверей какой-то член, в полковницком одеянии, повел меня в комнату, где видимо-невидимо лежит этих саквояжев.
«Смотрите»,— говорит.
«Вижу, мол, ваше высокоблагородие; ну только моего саквояжа нет».
«Ну, погодите,— говорит,— сейчас вам генерал на бумаге подпишет».
Сижу я и жду-жду, жду-жду; приезжает генерал: подали ему мою бумагу, он и подписал.
«Что ж это такое генерал подписали на моей бумаге?» — спрашиваю чиновника.
«А подписали,— отвечает,— что вас обкрадено». Держу эту бумагу при себе.
— Держите,— говорю,— Домна Платоновна.
— Неравно сыщется.
— Что ж, на грех мастера нет.
— Ох, именно уж нет на грех мастера! Что б это мне, кабы знатье-то, остаться у нее, у Кошеверихи-то, переночевать.
— Да хоть бы,— говорю,— уж на извозчика-то вы не пожалели.
— Об извозчике ты не говори; извозчик все равно такой же плут. Одна ведь у них у всех, у подлецов, стачка.
— Ну где,— говорю,— так уж у всех одна стачка! Разве их мало, что ли?
— Да вот ты поспорь! Я уж это мошенничество вот как знаю.
Домна Платоновна поднесла вверх крепко сжатый кулак и посмотрела на него с некоторой гордостью.
— Со мной извозчик-то, когда я еще глупа была, лучше гораздо сделал,— начала она, опуская руку.— С вывалом, подлец, вез, да и обобрал.
— Как это,— говорю,— с вывалом?
— А так, с вывалом, да и полно: ездила я зимой на Петербургскую сторону, барыне одной мантиль кружевную в кадетский корпус возила. Такая была барынька маленькая и из себя нежная, ну, а станет торговаться — раскричится, настоящая примадона. Выхожу я от нее, от этой барыньки, а уж темнеет. Зимой рано, знаешь, темнеет. Спешу это, спешу, чтоб до пришпекта скорей, а из-за угла извозчик, и этакой будто вохловатый мужичок. Я, говорит, дешево свезу.
«Пятиалтынный, мол, к Знаменью»,— даю ему.
— Ну, как же это,— перебиваю,— разве можно давать так дешево, Домна Платоновна!
— Ну вот, а видишь, можно было. «Ближней дорогой,— говорит,— поедем». Все равно! Села я в сани — саквояжа тогда у меня еще не было: в платочке тоже все носила. Он меня, этот черт извозчик, и повез ближней дорогой, где-то по-за крепостью, да на Неву, да все по льду, да по льду, да вдруг как перед этим, перед берегом, насупроти самой Литейной, каа-ак меня чебурахнет в ухаб. Так меня, знаешъ будто снизу-то кто под самое под донышко-то чук!— я и вылетела... Вылетела я в одну сторону, а узелок и бог его знает куда отлетел. Подымаюсь я, вся чуня-чуней, потому вода по колдобинам стояла.
«Варвар!— кричу на него,— что ты это, варвар, со мной сделал?» А он отвечает: «Ведь это,— говорит,— здесь ближняя дорога, здесь без вывала невозможно».— «Как,— говорю,— тиран ты этакой, невозможно? Разве так,— говорю,— возят?» А он, подлец, опять свое говорит: «Здесь, купчиха, завсегда с вывалом; я потому,— говорит,— пятиалтынный и взял, чтобы этой ближней дорогой ехать». Ну, говори ты с ним, с извергом! Обтираюсь я только да оглядываюсь; где мой узелочек-то оглядываюсь, потому как раскинуло нас совсем врозь друг от друга. Вдруг откуда ни возьмись этакой офицер, или вроде как штатский какой с усами: «Ах ты, бездельник этакой!— говорит,— мерзавец! везешь ты этакую даму полную и этак неосторожно?» а сам к нему к зубам так и подсыпается.
«Садитесь,— говорит,— сударыня, садитесь, я вас застегну».
«Узелок,— говорю,— милостивый государь, я обронила, как он, изверг, встряхнул-то меня».
«Вот,— говорит,— вам ваш узелок»,— и подает.
«Ступай, подлец,— крикнул на извозчика,— да смотрри! А вы,— говорит,— сударыня, ежели он опять вас вывалит, так вы его без всяких околичностей в морду».
«Где,— отвечаю,— нам, женчинам, с ними, с мереньями, справиться».
Поехали.
Только, знаешь, на Гагаринскую взъехали — гляжу, мой извозчик чего-то пересмеивается.
«Чего, мол, умный молодец, еще зубы скалишь?»
«Да так,— говорит,— намеднясь я тут дешево жида вез, да как вспомню это, и не удержусь».
«Чего ж,— говорю,— смеяться?»
«Да как же,— говорит,— не смеяться, когда он мордою-то прямо в лужу, да как вскочит, да кричит юх, а сам все вертится».
«Чего же,— спрашиваю,— это он так юхал?»
«А уж так,— говорит,— видно, это у них по религии».
Ну, тут и я начала смеяться.
Как вздумаю этого жида, так и не могу воздержаться, как он бегает да кричит это юх, юх.
«Пустая же самая,— говорю,— после этого их и религия».
Приехали мы к дому к нашему, встаю я и говорю: «Хоша бы стоило тебя,— говорю,— изверга, наказать и хоть пятачок с тебя вычесть, ну, только греха одного боясь: на? тебе твой пятиалтынный».
«Помилуйте,— говорит,— сударыня, я тут ничем непричинен: этой ближней дорогой никак без вывала невозможно; а вам,— говорит,— матушка, ничего: с того растете».
«Ах, бездельник ты,— говорю,— бездельник! Жаль,— говорю,— что давешний барин мало тебе в шею-то наклал».
А он отвечает: «Смотри,— говорит,— ваше степенство, не оброни того, что он тебе-то наклал»,— да с этим нно! на лошаденку и поехал.
Пришла я домой, поставила самоварчик и к узелку: думаю, не подмок ли товар; а в узелке-то, как глянула, так и обмерла. Обмерла, я тебе говорю, совсем обмерла. Хочу взвесть голос, и никак не взведу; хочу идти, и ножки мои гнутся.
— Да что ж там такое было, Домна Платоновна?
— Что — стыдно сказать что: гадости одни были.
— Какие гадости?
— Ну известно, какие бывают гадости: шароварки скинутые — вот что было.
— Да как же,— говорю,— это так вышло?
— А вот и рассуждай ты теперь, как вышло. Меня по первоначалу это-то больше и испугало, что как он на Неве скинуть мог их да в узелок завязать. Вижу и себе не верю. Прибежала я в квартал, кричу: батюшки, не мой узел.
«Знаем,— говорят,— что немой; рассказывай толком».
Рассказала.
Повели меня в сыскную полицию. Там опять рассказала. Сыскной рассмеялся.
«Это, верно,— говорит,— он, подлец, из бани шел».
А враг его знает, откуда он шел, только как это он мне этот узелок подсунул?
— В темноте,— говорю,— немудрено, Домна Платоновна.
— Нет, я к тому, что ты говоришь извозчик-то: не оброни, говорит, что накладено! Вот тебе и накладено, и разумей, значит, к чему эти его слова-то были.
— Вам бы,— говорю,— надо тогда же, садясь в сани, на узелок посмотреть.
— Да как, мой друг, хочешь смотри, а уж как обмошенничать тебя, так все равно обмошенничают.
— Ну, это,— говорю,— уж вы того...
— Э, ге-ге-ге! Нет, уж ты сделай свое одолжение: в глазах тебя самого не тем, чем ты есть, сделают. Я тебе вот какой случай скажу, как в глаза-то нашего брата обделывают. Иду я — вскоре это еще как из своего места сюда приехала,— и надо мне было идти через Апраксин. Тогда там теснота была, не то что теперь, после пожару — теперь прелесть как хорошо, а тогда была ужасная гадость. Ну, иду я, иду себе. Вдруг откуда ни возьмись молодец этакой, из себя красивый: «Купи, говорит, тетенька, рубашку». Смотрю, держит в руках ситцевую рубашку, совсем новую, и ситец преотличный такой — никак не меньше как гривен шесть за аршин надо дать.
«Что ж,— спрашиваю,— за нее хочешь?»
«Два с полтиной».
«А что,— говорю,— из половинки уступишь?»
«Из какой половины?»
«А из любой,— говорю,— из какой хочешь». Потому что я знаю, что в торговле за всякую вещь всегда половину надо давать.
«Нет,— отвечает,— тетка, тебе, видно, не покупать хороших вещей»,— и из рук рубашку, знаешь, дергает.
«Дай же»,— говорю, потому вижу, рубашка отличная, целковых три кому не надо стоит.
«Бери,— говорю,— рупь».
«Пусти,— говорит,— мадам!» — дернул и, вижу, свертывает ее под полу и оглядывается. Известное дело, думаю, краденая; подумала так и иду, а он вдруг из-за линии выскакивает: «Давай,— говорит,— тетка, скорей деньги. Бог с тобой совсем: твое, видно, счастье владеть».
Я ему это в руки рупь-бумажку даю, а он мне самую эту рубаху скомканную отдает.
«Владай,— говорит,— тетенька», а сам верть назад и пошел.
Я положила в карман портмоне, да покупку-то эту свою разворачиваю, аж гляжу — хлоп у меня к ногам что-то упало. Гляжу — мочалка старая, вот что в небели бывает. Я тогда еще этих петербургских обстоятельств всех не знала, дивуюсь: что, мол, это такое? да на руки-то свои глядь, а у меня в руках лоскут! Того же самого ситца, что рубашка была, так лоскуток один с пол-аршина. А эти мереньё приказчики грохочут: «К нам,— трещат,— тетенька, пожалуйте; у нас,— говорят,— есть и фас-канифас и для глупых баб припас». А другой опять подходит: «У нас,— говорит,— тетенька, для вашей милости саван есть подержанный чудесный». Я уж это все мимо ушей пущаю: шут, думаю, с вами совсем. Даже, я тебе говорю, сомлела я; страх на меня напал, что? это за лоскут такой? Была рубашка, а стал лоскут. Нет, друг мой, они как захотят, так всё сделают. Ты Егупова полковника знаешь?
— Нет, не знаю.
— Ну как, чай, не знать! Красивый такой, брюхастый: отличный мужчина. Девять лошадей под ним на войне убили, а он жив остался: в газетах писано было об этом.
— Я его все-таки, Домна Платоновна, не знаю.
— Что нам с ним один варвар сделал? Это, я тебе говорю, роман, да еще и романов-то таких немного — на театре разве только можно представить.
— Матушка,— говорю,— вы уж не мучьте, рассказывайте!
— Да, эту историю уж точно что стоит рассказать. Как он только называется?.. есть тут землемер... Кумовеев ни то Макавеев, в седьмой роте в Измайловском он жил.
— Бог с ним.
— Бог с ним? Нет, не бог с ним, а разве черт с ним, так это ему больше кстати.
— Да это я только о фамилии-то.
— Да, о фамилии — ну, это пожалуй; фамилия ни чего — фамилия простая, а что сам уж подлец, так самый первый в столице подлец. Пристал: «Жени меня, Домна Платоновна!»
«Изволь,— говорю,— женю; отчего,— говорю,— не женить?— женю».
Из себя он тварь этакая видная, в лице белый и усики этак твердо носит.
Ну, начинаю я его сватать; отягощаюсь, хожу, выискала ему невесту из купечества — дом свой на Песках, и девушка порядочная, полная, румяная; в носике вот тут-то в самой в переносице хоть и был маленький изъянец, но ничего это — потому от золотухи это было. Хожу я, и его, подлеца, с собою вожу, и совсем уж у нас дело стало на мази. Тут уж я, разумеется, надзираю за ним как не надо лучше, потому что это надо делать безотходительно, да уж и был такой и слух, что он с одной девицей из купечества обручившись и деньги двести серебра на окипировку себе забрал, а им дал женитьбенную расписку, но расписка эта оказалась коварная, и ничего с ним по ней сделать не могли. Ну, уж знавши такое про человека, разумеется, смотришь в оба — нет-нет, да и завернешь с визитом. Только прихожу, сударь мой, раз один к нему — а он, надо тебе знать, две комнаты занимал: в одной так у него спальния его была, а в другой вроде зальца. Вхожу это и вижу, дверь из зальцы в спальню к нему затворена, а какой-то этакой господин под окном, надо полагать вояжный; потому ледунка у него через плечо была, и сидит в кресле и трубку курит. Это-то вот он самый полковник-то Егупов и будет.
«Что,— я говорю, этак сама-то к нему оборачиваюсь,— или,— говорю,— хозяина дома нет?»
А он мне на это таково сурово махнул головой и ничего не ответил, так что я не узнала: дома землемер или его нету.
Ну, думаю, может, у него там дамка какая, потому что хоть он и жениться собирается, ну а все же. Села я себе и сижу. Но нехорошо же, знаешь, так в молчанку сидеть, чтоб подумали, что ты уж и слова сказать не умеешь.
«Погода,— говорю,— стоит нынче какая преотличная».
Он это сейчас же на мои слова вскинул на меня глазами, да, как словно из бочки, как рявкнет: «Что,— говорит,— такое?»
«Погода,— опять говорю,— стоит очень приятная».
«Врешь,— говорит,— пыль большая».
Пыль-таки и точно была, ну, а все я, знаешь, тут же подумала, что ты, мол, это такой? Из каких таких взялся, что очень уж рычишь сердито?
«Вы,— говорю ему опять,— как Степану Матвеевичу — сродственник будете или приятели только, знакомые?»
«Приятель»,— отвечает.
«Отличный,— говорю,— человек Степан Матвеевич».
«Мошенник,— говорит,— первой руки».
Ну, думаю, верно Степана Матвеевича дома нет.
«Вы,— говорю,— давно их изволите знать?»
«Да знал,— говорит,— еще когда баба девкой была».
«Это,— отвечаю,— сударь, и с тех пор, как я их зазнала, может, не одна уж девка бабой ходит, ну только я не хочу греха на душу брать — ничего за ними худого не замечала».
А он ко мне этак гордо:
«Да у тебя на чердаке-то что?,— говорит,— напхано?— сено!»
«Извините,— говорю,— милостивый государь, у меня, слава моему создателю, пока еще на плечах не чердак, а голова, и не сено в ней, а то же самое, что и у всякого человека, что богом туда приназначено».
«Толкуй!» — говорит.
«Мужик ты,— думаю себе,— мужиком тебе и быть».
А он в это время вдруг меня и спрашивает:
«Ты,— говорит,— его брата Максима Матвеева знаешь?»
«Не знаю,— говорю,— сударь: кого не знаю, про того и лгать не хочу, что знаю».
«Этот,— говорит,— плут, а тот и еще почище. Глухой».
«Как,— говорю,— глухой?»
«А совсем-таки,— говорит,— глухой: одно ухо глухо, а в другом золотуха, и обоими не слышит».
«Скажите,— говорю,— как удивительно!»
«Ничего,— говорит,— тут нет удивительного».
«Нет, я, мол, только к тому, что один брат такой красавец, а другой — глух».
«Ну да; то-то совсем ничего в этом и нет удивительного; вон у меня у сестры на роже красное пятно, как лягушка точно сидит: что ж мне-то тут такого!»
«Родительница,— говорю,— верно, в своем интересе чем испугалась?»
«Самовар,— говорит,— ей девка на пузо вывернула».
Ну, я тут-то вежливо пожалела.
«Долго ли,— говорю,— с этими, с быстроглазыми, до греха»,— а он опять и начинает:
«Ты,— говорит,— если только не совсем ты дура, так разбери: он, этот глухой брат-то его, на лошадей охотник меняться».
«Так-с»,— говорю.
«Ну, а я его вздумал от этого отучить, взял да ему слепого коня и променял, что лбом в забор лезет».
«Так-с»,— говорю.
«А теперь мне у него для завода бычок понадобился, я у него этого бычка и купил и деньги отдал; а он, выходит, совсем не бык, а вол».
«Ах,— говорю,— боже мой, какая оказия! Ведь это,— говорю,— не годится».
«Уж разумеется,— говорит,— когда вол, так не годится. А вот я ему, глухому, за это вот какую шутку отшучу: у меня на этого его брата, Степана Матвеича, расписка во сто рублей есть, а у них денег нет; ну, так я им себя теперь и покажу».
«Это,— говорю,— точно, что можете показать».
«Так ты,— говорит,— так и знай, что этот Максим Матвеич — каналья, и я вот его только дождусь и сейчас его в яму».
«Я, мол, их точно в тонкость не знаю, а что сватаючи их, сама я их порочить не должна».
«Сватаешь!» — вскрикнул.
«Сватаю-с».
«Ах ты,— говорит,— дура ты, дура! Нешто ты не знаешь, что он женатый?»
«Не может,— говорю,— быть!»
«Вот тебе и не может, когда трое детей есть».
«Ах, скажите,— говорю,— пожалуйста!» «Ну, Степан,— думаю,— Матвеич, отличную ж вы было со мной штуку подшутили!» — и говорю, что стало быть же, говорю, как я его теперь замечаю, он, однако, фортель!
А он, этот полковник Егупов, говорит: «Ты если хочешь кого сватать, так самое лучшее дело — меня сосватай».
«Извольте, мол».
«Нет, я,— говорит,— это тебе без всяких шуток вправду говорю».
«Да извольте,— отвечаю,— извольте!»
«Ты мне, кажется, не веришь?»
«Нет-с, отчего же: это, мол, действительно, если человек имеет расположение от рассеянной жизни увольняться, то самое первое дело ему жениться на хорошей девушке».
«Или,— говорит,— хоть на вдове, но чтоб только с деньгами».
«Да, мол, или на вдове».
Пошли у нас тут с ним разговоры; дал он мне свой адрес, и стала я к нему ходить. Что только тоже я с ним, с аспидом, помучилась! Из себя страшный-большой и этакой фантастический — никогда он не бывает в одном положении, а всякого принимает по фантазии. Есть, разумеется, у людей разное расположение, ну только такого мужчину, как этот Егупов, не дай господи никакой жене на свете. Станет, бывало, бельма выпучит, а сам, как клоп, кровью нальется — орет: «Я тебя кверху дном поставлю и выворочу. Сейчас наизнанку будешь!» Глядя на это, как он беснуется, думаешь: «ах, обиду какую кровную ему кто нанес!» — а он сердит оттого, что не тем боком корова почесалась. Ну, однако, сосватала я и его на одной вдове на купеческой. Такая-то, тоже ему под пару, точно на заказ была спечена, туша присноблаженная. Ну-с, сударь ты мой, отбылись смотрины, и сговор назначили.
Приезжаем мы с ним на этот сговор, много гостей — родственники с невестиной стороны и знакомые, всё хорошего поколения, значительного, и смотрю, промеж гостей, в одном угле на стуле сидит — этот землемер Степан Матвеич.
Очень это мне не показалось, что он тут, но ничего я не сказала.
Верно, думаю, должно быть его из ямы выпустили, он и пришел по знакомству.
Ну, впрочем, идет все как следует. Прошла помолвка, прошло образование, и все ничего. Правда, дядя невестин, Колобов Семен Иваныч, купец, пьяный пришел и начал было врать, что это, говорит, совсем не полковник, а Федоровой банщицы сын. «Лизни,— говорит,— его кто-нибудь языком в ухо, у него такая привычка, что он сей час за это драться станет. Я,— болтает,— его знаю; это он одел эполеты, чтоб пофорсить, но я с него эти эполеты сейчас сорву», ну, только этого же не допустили, и Семена Иваныча самого за это сейчас отвели в пустую половину, в холодную.
Но вдруг, во время самого благословения, отец невестин поднимает образ, а по зале как что-то загудет! Тот опять поднимает икону, а по зале опять гу-у-у-у!— вдруг явственно выговаривает:
«Нечего,— говорит,— петь Исаю, когда Мануил в чреве».
Господи! даже отороп на всех напал. Невесте конфуз; Егупов, гляжу, тоже бельмами-то своими на меня.
Ну что, думаю, ты-то! ты-то что, батюшка, на меня остребенился, как черт на попа?
А в зале опять как застонет:
«К небесам в поле пыль летит, к женатому жениху — жена катит, богу молится, слезьми обливается».
Бросились туда-сюда — никого нет.
Боже мой, что тут поднялось! Невестин отец образ поставил да ко мне, чтоб бить; а я, видючи, что дело до меня доходит, хвост повыше подобрамши, да от него драла. Егупов божится, что он сроду женат не был: говорит, хоть справки наведите, а глас все свое, так для всех даже внимательно: «Не вдавайте,— говорит,— рабы, отроковицу на брак скверный». Все дело в расстрой!— Что ж, ты думаешь, все это было?.. Приходит ко мне после этого через неделю Егупов сам и говорит: «А знаешь,— говорит,— Домна, ведь это все подлец землемер пупком говорил!»
— Ну, как так,— спрашиваю,— Домна Платоновна, пупком?
— А пупком, или чревом там, что ли, бес его лукавый знает, чем он это каверзил. То есть я тебе говорю, что все это они нонче один перед другим ухитряются, один перед другим выдумывают, и вот ты увидишь, что они чисто все государство запутают и изнищут.
Я даже смутился при выражении Домною Платоновною совершенно неожиданных мною опасений за судьбы российского государства. Домна Платоновна, всеконечно, заметила это и пожелала полюбоваться производимым ею политическим эффектом.
— Да, право, ей-богу!— продолжала она ноткою выше.— Ты только сам, помилуй, скажи, что хитростев всяких настало? Тот летит по воздуху, что птице одной назначено; тот рыбою плавлет и на дно морское опускается; тот теперь — как на Адмиралтейской площади — огонь серный ест; этот животом говорит; другой — еще что другое, что? человеку ненаказанное — делает... Господи! бес, лукавый сам, и тот уж им повинуется, и все опять же таки не к пользе, а ко вреду. Со мной ведь один раз было же, что была я отдана бесам на поругание!
— Матушка,— говорю,— неужто и это было?
— Было.
— Так не томите, рассказывайте.
— Давно это, лет, может быть, двенадцать тому будет, молода я еще в те поры была и неопытна, и задумала я, овдовевши, торговать. Ну, чем, думаю, торговать?— Лучше нечем, по женскому делу, как холстом, потому — женщина больше в этом понимает, что к чему принадлежит. Накуплю, думаю, на ярманке холста и сяду у ворот на скамеечке и буду продавать. Поехала я на ярманку, накупила холста, и надо мне домой ворочаться. Как, думаю, теперь мне с холстом домой ворочаться? А на двор на постоялый, хлоп, взъезжает троешник.
«Везли мы,— сказывает,— из Киева, в коренную, на семи тройках орех, да только орех мы этот подмочили, и теперь,— говорит,— сделало с нас купечество вычет, и едем мы к дворам совсем без заработка».
«Где ж,— спрашиваю,— твои товарищи?»
«А товарищи,— отвечает,— кто куда в свои места поехали, а я думаю, не найду ли хоть седочков каких».
«Откуда же,— пытаюсь,— из каких местов ты сам?»
«А я куракинский,— говорит,— из села из Куракина».
Как раз это мне к своему месту. «Вот,— говорю,— я тебе одна седачка готовая».
Поговорили мы с ним и на рубле серебра порешили, что пойдет он по дворам, чтоб еще седоков собрать, а завтра чтоб в ранний обед и ехать.
Смотрю, завтра это вдруг валит к нам на двор один человек, другой, пятый, восьмой, и всё мужчины из торговцев, и красики такие полные. Вижу, у одного мешок, у другого— сумка, у третьего — чемодан, да еще ружье у одного.
«Куда ж,— говорю извозчику,— ты это нас всех запихаешь?»
«Ничего,— говорит,— улезете — повозка большая, сто пудов возим». Я, признаться, было хоть и остаться рада, да рупь-то ему отдан, и ехать опять не с кем.
С горем с таким и с неудовольствием, ну, однако, поехала. Только что за заставу мы выехали, сейчас один из этих седоков говорит: «Стой у кабака!» Пили они тут много и извозчика поят. Поехали. Опять с версту отъехали, гляжу — другой кричит: «Стой,— говорит,— здесь Иван Иваныч Елкин живет, никак,— говорит,— его минать не должно».
Раз они с десять этак останавливались всё у своего Ивана Иваныча Елкина.
Вижу я, что дело этак уж к ночи и что извозчик наш распьяным-пьяно-пьян сделался.
«Ты,— говорю,— не смей больше пить».
«Отчего это так,— отвечает,— не смей? Я и так,— говорит,— не смелый, я все это не смеючи действоваю».
«Мужик,— говорю,— ты, и больше ничего».
«Ну-к что ж, что мужик! а мне,— говорит,— абы водка».
«Тварь-то, глупец,— учу его,— пожалел бы свою!»
«А вот я,— говорит,— ее жалею»,— да с этим словом мах своим кнутовищем и пошел задувать. Телега-то так и подскакивает. Того только и смотрю, что сейчас опрокинемся, и жизни нашей конец. А те пьяные все заливаются. Один гармонию вынул, другой песню орет, третий из ружья стреляет. Я только молюсь: «Пятница Просковея, спаси и помилуй!»
Неслись мы, неслись во весь кульер, и стали кони наши, наконец, приставать, и поехали мы опять шагом. На дворе уж этак смерклось, и не то чтобы, как сказать, дождь ишел, а все будто туман брызгает. Руки у меня просто страсть как набрякли держамшись, и уж я рада-радешенька, что, наконец, мы едем тихо; сижу уж и голосу не подаю. А у тех тем часом, слышу, разговор пошел: один сказывает, что разбойники тут по дороге шляются, а другой отвечает ему, что он разбойников не боится, потому что у него ружье два раза стрелять может. Опять еще какой-то о мертвецах заговорил: я, рассказывает, мертвую кость имею, кого, говорит, этою костью обведу, тот сейчас мертвым сном заснет и не подымется; а другой хвастается, что у него есть свеча из мёртвого сала. Я это все слушала, и вдруг все словно кто меня стал за нос водить, и ударил на меня сон, и в одну минуту я заснула.
Только крепко я заснуть никак не могла, потому что все нас, словно орехи в решете, протряхивало, и во сне мне слышится, как будто кто-то говорит: «Как бы,— говорит,— нам эту чертову бабу от себя вон выкинуть, а то ног некуда протянуть». Но я все сплю.
Вдруг, сударь ты мой, слышу крик, визг, гам. Что такое? Гляжу — ночь, повозка наша стоит, и около нее всё вертятся, да кричат, а что кричат — не разобрать.
«Шурле-мурле, шире-мире-кравермир»,— орет один.
Наш это, что с ружьем-то ехал, бац из одного ружья — пистолет лопнул, а стрельбы нет, бац из другого — пистолет опять лопнул, а стрельбы нет.
Вдруг этот, что кричал-то, опять как заорет: шире-мире-кравермир! да с этим словом хап меня под руки-то из телеги да на поле; да ну вертеть, ну крутить. Боже мой, думаю, что ж это такое! Гляну, гляну вокруг себя — всё рожи такие темные, да всё вертятся и меня крутят да кричат: шире-мире! да за ноги меня, да ну раскачивать.
«Батюшка!— взмолилась я, такое над собой в первый раз видючи,— Никола божий амченский! триех дев непорочный невестителю! чистоты усердной хранителю! не допусти же ты им хоть наготу-то мою недостойную видеть!»
Только что я это в сердце своем проговорила, и вдруг чувствую, что тишина вокруг меня стала необъятная, и лежу будто я в поле, в зелени такой изумрудной, и передо мною перед ногами моими плывет небольшое этакое озерцо, но пречистое, препрозрачное, и вокруг него, словно бахрома густая, стоит молодой тростник и таково тихо шатается.
Забыла я тут и про молитву, и все смотрю на этот тростник, словно сроду я его не видала.
Вдруг вижу я что же? Вижу, что с этого с озера поднимается туман, такой сизый, легкий туман, и, точно настоящая пелена, так по полю и расстилается. А тут под туманом на самой на середине озера вдруг кружочек этакой, как будто рыбка плеснулась, и выходит из этого кружочка человек, так маленький, росту не больше как с петуха будет; личико крошечное; в синеньком кафтанчике, а на головке зеленый картузик держит.
«Удивительный,— думаю,— какой человек, будто как куколка хорошая», и все на него смотрю, и глаз с него не спускаю, и совсем его даже не боюсь, вот таки ни капли не боюсь.
Только он, смотрю, начинает всходить-всходить, и все ко мне ближе, ближе и, на конец того дела, прыг прямо ко мне на грудь. Не на самую, знаешь, на грудь, а над грудью стоит на воздухе и кланяется. Таково преважно поднял свой картузик и здравствуется.
Смех меня на него разбирает ужасный: «Где ты,— думаю,— такой смешной взялся?»
А он в это время хлоп свой картузик опять и говорит... да ведь что же говорит-то!
«Давай,— говорит,— Домочка, сотворим с тобой любовь!»
Так меня смех и разорвал.
«Ах ты,— говорю,— шиш ты этакой! Ну, какую ты можешь иметь любовь?»
А он вдруг задом ко мне верть и запел молодым кочетком: кука-реку-ку-ку!
Вдруг тут зазвенело, вдруг застучало, вдруг заиграло: стон, я тебе говорю, стоит. Боже мой, думаю, что ж это такое? Лягушки, карпии, лещи, раки, кто на скрыпку, кто на гитаре, кто в барабаны бьют; тот пляшет, тот скачет, того вверх вскидывает!
«Ах,— думаю,— плохо это! Ах, совсем это нехорошо! Огражду я себя,— думаю,— молитвой», да хотела так-то зачитать: «Да воскреснет бог», а на место того говорю: «Взвейся, выше понесися», и в это время слышу в животе у меня бум-бурум-бум, бум-бурум-бум.
«Что это, мол, я такое: тарбан, что ль?» — и гляжу, точно я тарбан. Стоит надо мной давешний человечек маленький и так-то на мне нарезывает.
«Ох,— думаю,— батюшки! ох, святые угодники!» — а он все по мне смычком-то пилит-пилит, и такое на мне выигрывает, и вальсы, и кадрели всякие, а другие еще поджигают: «Тарабань жесче, жесче тарабань!» — кричат.
Боль, тебе говорю, в животе непереносная, а все гуду. И так целую ночь целехонькую на мне тарабанили; целую ночь до бела до света была я им, крещеный человек, заместо тарбана; на утешение им, бесам, служила.
— Это,— говорю,— ужасно.
— И очень даже, мой друг, ужасно. Но тем это еще было ужаснее, что утром, как оттарабанили они на мне всю эту свою музыку, я оглядываюсь и вижу, что место мне совсем незнакомое: поле, лужица этакая точно есть большая, вроде озерца, и тростник, и все, как я видела, а с неба солнце печет жарко, и прямо мне во всю наружность. Гляжу, тут же и мой сверточек с холстами и сумочка — всё в целости; а так невдалеке деревушка. Я встала, доплелась до деревушки, наняла мужика, да к вечеру домой и доехала.
— И что же вы, Домна Платоновна, уверены, что все это с вами действительно приключилось?
— А то врать я, что ли, на себя стану?
— Нет, я говорю про то, что именно так ли все это было-то?
— Так и было, как я тебе сказываю. А ты вот подивись, как я им наготы-то своей не открыла.
Я подивился.
— Да; вот и с бесом да совладала, а с лукавым человеком так вышло раз иначе.
— Как же вышло?
— Слушай. Купила я для одной купчихи мебель, на Гороховой у выезжих. Были комоды, столы, кровати и детская короватка с этаким с тесьменным дном. Заплатила я тринадцать рублей деньги, выставила все в коридор и пошла за извозчиком. Взяла за рупь за сорок к Николе Морскому извозчика ломового и укладываем с ним мебель, а хозяева, у которых купила-то я, на ту пору вышли и квартиру замкнули. Вдруг откуда ни возьмись дворники, татары, «халам-балам»: как ты смеешь, орут, вещи брать? Я туда, я сюда — не спускают. А тут дождь, а тут извозчлк стоять не хочет. Боже мой! Насилу я надумалась: ну, ведите, говорю, меня в квартал — я, говорю, квартального жена. И только это сказала, входят на двор эти господа, у которых мебель купила. «Продана,— говорят,— точно, ей эта мебель продана». Ну, извозчик мой говорит: садись. Думаю, и точно, замест того, чтоб на живейного тратить, сяду я в короватку детскую. Высоко они эту короватку, на самом на верху воза над комодой утвердили, но я вскарабкалась и села. Только что ж бы ты думал? Не успела я со двора выехать, как слышу, низок-то подо мною тресь-тресь-тресь.
«Ах,— думаю,— батюшки, ведь это я проваливаюсь!» И с этим словом хотела встать на ноги, да трах — и просунулась. Так верхом, как жандар, на одной тесемке и сижу. Срам, я тебе говорю, просто на смерть! Одежа вся вабилась, а ноги голые над комодой мотаются; народ дивуется; дворники кричат: «Закройся, квартальничиха», а закрыться нечем. Вот он варвар какой!
— Это кто же,— говорю,— варвар?
— Да извозчик-то: где же, скажи ты, пожалуй, зевает на лошадь, а на пассажира и не посмотрит. Мало ведь чуть не всю Гороховую я так проехала, да уж городовой, спасибо ему, остановил. «Что это,— говорит,— за мерзость такая? Это не позволено, что ты показываешь?» Вот как я посветила наготой-то.
«Воительница».
Главы: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - Примечания - Аудиокнига |