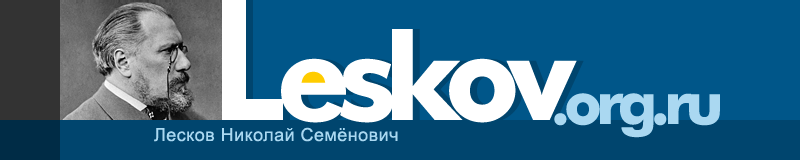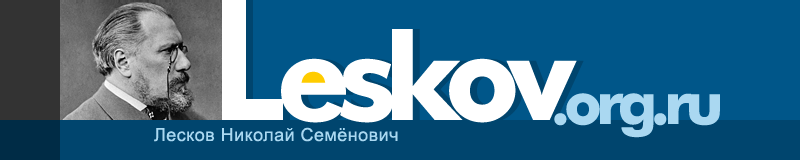|
На ножах.
Часть первая. Боль врача ищет.
«На ножах».
Часть первая. Боль врача ищет.
Часть вторая. Бездна призывает бездну.
Часть третья. Кровь.
Часть четвертая. Мертвый узел.
Часть пятая. Темные силы.
Часть шестая. Через край.
Эпилог.
Примечания.
Художественный фильм, 1-5 серии.
Художественный фильм, 6-11 серии.
Глава первая. Отступница.
В губернском городе N есть довольно большой деревянный дом, принадлежащий господам Висленевым, Иосафу Платоновичу, человеку лет тридцати пяти, и сестре его, Ларисе Платоновне, девушке по двадцатому году. Дом этот, просторный и барский, был бы вовсе бездоходен, если б его владельцы захотели жить в нем, не стесняясь. В нем девять комнат, по старорусскому дворянскому обычаю расположенных так, что двум семействам в них никак разместиться невозможно. Родители нынешних владельцев строили дом для себя и не предвидели никакой нужды извлекать из него какие бы то ни было доходы, а потому и планировали его, что называется, по своей фантазии. Старикам не было и нужды стеснять себя, потому что у них по старине были хорошие доходы с доходного места. При известной беспечности, вообще свойственной русской натуре, доходам этим не предвиделось конца, а он вдруг и пришел: старик Платон Висленев, советник одной из губернских палат, лег однажды спать и не проснулся. Вдова его нашла в бюро мужа очень небольшую сумму денег и получила тоже очень небольшой пенсион. Всем этим прожить было невозможно, тем более, что приходилось воспитывать нынешних владельцев дома, Иосафа Платоновича, бывшего тогда в шестом классе гимназии, и Ларису Платоновну, оставшуюся в совершенном малолетстве. Дом надо было сделать из бездоходного доходным. С этой целью вдова Висленева построила во дворе, окнами в сад флигелек в пять небольших комнат, и сама с детьми поселилась в этом флигельке, а большой дом начала отдавать внаймы. С этих пор доходы ее стали таковы, что она могла содержать сына в гимназии, а потом и в университете, а дочь добрые люди помогли устроить в институт на казенный счет. Вдова Висленева вела жизнь аккуратную и расчетливую, и с тяжкою нуждой не зналась, а отсюда в губернских кружках утвердилось мнение, что доходы ее отнюдь не ограничиваются домом да пенсией, а что у нее, кроме того, конечно, есть еще и капитал, который она тщательно скрывает, приберегая его на приданое Ларисе. Доходили такие слухи и до самой вдовы, и она их, по общему мнению, опровергала очень слабо: старушка имела в виду, что эти толки ей не повредят. Семь лет тому назад подозрения насчет таинственного ларца вдовы Висленевой получили еще новое и для местных прозорливцев неотразимое подтверждение. Иосаф Платонович Висленев тотчас, по окончании университетского курса, приехал домой, и только что было определился на службу, как вдруг его ночью внезапно арестовали, обыскали и увезли куда-то по политическому делу. Спасения и возврата его никто не чаял, его считали погибшим навеки, причем губернскому человечеству были явлены новые доказательства человеческого или, собственно говоря, женского коварства и предательства, со стороны одной молодой, но, как все решили, крайне испорченной и корыстной девушки, Александры Ивановны Гриневич. Выручил же Иосафа Висленева материн заповедный ларец. Дело об этом предательстве требует подробного объяснения.
Иосаф Платонович Висленев еще чуть не с пятнадцати лет был влюблен в дочь нанимавшего их дом инспектора врачебной управы Гриневича. Близкие люди считали эту любовь большим несчастием для молодого человека, подававшего блестящие надежды. Считали это несчастием, конечно, не потому, чтобы кто-нибудь признавал Сашеньку Гриневич, тогда еще девочку, недостойною со временем хорошей партии, но потому, что взаимное тяготение детей обнаружилось слишком рано, так что предусмотрительные люди имели основание опасаться, чтобы такая ранняя любовь не помешала молодому человеку учиться, окончить курс и стать на хорошую дорогу.
Опасения, и понятные, и уместные, на этот раз, как редкое, может быть, исключение, оказались излишними. Любовь Иосафа Платоновича Висленева к Александре Ивановне Гриневич не помешала ему ни окончить с золотою медалью курс в гимназии, ни выйти одним из первых кандидатов из университета. Пока молодой Висленев был в гимназии, а Александра Ивановна ходила в пансион, родители не препятствовали их юной привязанности. Когда Висленев уехал в университет, между ним и Сашей Гриневич, оставившей в это время пансионские уроки, установилась правильная переписка, которой никто из родителей не заботился ни приостанавливать, ни проверять. Все это за обычай стало делом, имеющим правильное течение, которое, как все верили, должно завершиться венцом.
Родители Сашеньки имели про черный день состояньице, правда, очень небольшое, но во всяком случае обеспечивающее их дочери безбедное существование. Таким образом Сашенька, которая была недурна собой, очень способна, училась хорошо, нрав имела веселый и кроткий, чем она не невеста? Иосаф Висленев молодец собой, имел дом, университетское образование: стало быть, чем же он не жених? Матери очень многих девиц, поставленных гораздо лучше, чем дочь доктора Гриневича, и гораздо положительнее ее обеспеченных, не пренебрегли бы таким женихом, как Висленев, а Сашеньке Гриневич партия с Висленевым, по всеобщему приговору, была просто клад, за который эта девушка должна была держаться крепче.
По общим замечаниям, Сашенька понимала свою пользу и держалась, за что ей следовало держаться, превосходно. Говорили, что надо было дивиться ее такту и уму, твердым и расчетливым даже не по летам. С Иосафом Платоновичем она не всегда была ровна, и даже подчас для самого ненаблюдательного взгляда было заметно, что между ними пробегали легкие тени.
— Наши дети дуются, — говорили друг другу их матушки, бывшие между собою друзьями.
Дети дулись, но их никто не мирил и никто не уговаривал; за ними, однако, наблюдали со вниманием и очень радовались, когда ссора прекращалась и между ними восстанавливалась дружба и согласие, а это случалось всегда немедленно после того, как Иосаф Висленев, переломив свою гордость и изыскав удобную минуту уединенного свидания с Сашей, просил у нее прощения.
В чем заключались те вины Иосафа Висленева, которые Александра Ивановна разрешала и отпускала ему не иначе как после покаяния? Это оставалось тайной, этого никто из родных и домашних не знал, да и не усиливался проникнуть. Однажды лишь одной досужей соседке вдовы Висленевой удалось подслушать, как Саша журила Иосафа Платоновича за его опыты в стихотворстве. Это многих возмутило и показалось капризом со стороны Саши, но Иосаф Платонович сам сознался матери, что писал в стихах ужасный вздор, который, однако, отразился вредно на его учебных занятиях в классе, и что он даже очень благодарен Саше за то, что она вернула его к настоящему делу.
Это раз навсегда примирило мать Висленева с тенями в отношениях Саши к Иосафу Платоновичу, и вдова не преминула, кому только могла, рассказать о Сашенькиной солидности.
Солидности этой, однако, не всеми была дана одинаковая оценка, и многие построили на ней заключения невыгодные для характера молодой девушки. Некоторые молодые дамы, например, называли это излишнею практичностью и жестокостью: по их мнению, Саша, имей она душу живую и восприимчивую, какую предполагает в себе каждая провинциальная дама, не убивала бы поэтические порывы юноши, а поддерживала бы их: женщина должна вдохновлять, а не убивать вдохновение.
Вдова Висленева не внимала этим речам, ей нелегко было содержать сына в школе, и потому она страшно боялась всего, что угрожало его успехам, и осталась на стороне Саши, которою таким образом была одержана первая солидная победа над всеми желавшими соперничать с нею в семье жениха.
Старые дамы глядели на дело с другой стороны и, прозирая вдаль, предсказывали утвердительно одно, что Саша раньше времени берет Иосафа Платоновича под башмак и отныне будет держать целую жизнь под башмаком.
Мать Висленева явила столько характера, что не смущалась и такими предсказаниями и, махая рукой, отвечала, что «Улита едет, а когда-то будет!»
Мать Александры Ивановны, в свою очередь, пробовала допрашивать дочь, за что она порой недовольна на Висленева, но Саша обыкновенно кротко отвечала:
— Так, за пустяки, maman!
— Так за пустяки, мой друг, но зачем же сердиться? Споры во всяком случае не красят жизнь, а темнят ее.
— Ну, мамочка, поверьте мне, что я не хочу же, чтоб его жизнь мрачилась а, напротив, желаю ему счастия и...
Девушка потупилась и замолчала.
— И что, Alexandrine? — спросила ее мать, положив на колени свое шитье и вскинув на лоб черепаховые очки.
— И я, maman, сама стыжусь беспрестанных размолвок и страдаю от них больше, чем он. Верьте, что я тысячу раз сама охотнее просила бы у него извинения... я сделала бы все, чего бы он только захотел, если б я... была виновата!
— Пред ним?
— Нет, maman, не пред ним... этого я даже не допускаю, но пред правдой, пред долгом, пред его матерью, которой он так обязан. Поверьте, maman, что все, что в этом отношении в нем для других мелко и ничтожно, то... для меня ужасно видеть в нем. Он... — проговорила Саша и снова замялась.
Старая Гриневич посмотрела на дочь пристальным взглядом и тихо поманила ее к себе.
Девушка опустилась коленами на скамейку, стоявшую у ног матери, и, взяв ее руки, поцеловала их.
Старуха откинула набежавшие на лоб дочери каштановые кудри и вперила пристальный взгляд в ее большие глаза.
— Скажи мне, что он делает, мой друг? — прошептала мать.
— Мама, дружок мой, не спрашивай меня об этом, это, может быть, в самом деле все пустяки, которые я преувеличиваю; но их... как тебе, мама, выразить, не знаю. Он хочет любить то, чего любить не может, он верит тем, кому не доверяет; он слушается всех и никого…. Родная! прости мне, что я тебя встревожила, и забудь о моей болтовне.
Когда приезжал на каникулы Иосаф Висленев из университета, он и Саша встречались друг с другом каждый раз чрезвычайно тепло и нежно, но в то же время было замечено, что с каждою побывкой Висленева домой радость свидания с Сашей охладевала. Теней и прежних полудетских ссор, теперь, правда, не было, но зато их в молодой девушке заменили сдержанность и самообладание и в речи, и в приемах. Впрочем, было ясно, что это была только сдержанность, а не измена в чувствах. Опытный и зоркий взгляд, наблюдая молодых людей, мог заметить, что они любили друг друга по-прежнему, а Саша еще и больше прежнего. Чем дальше Висленев уклонялся от ее идеала, тем сильнее овладевал ее сердцем, ее волею и ее помыслами. Так любят в жизни раз, далеко пред тою порой, когда любовь послушна разуму.
Любовь, самая чистая, самая преданная, сказывалась у Саши вниманием ко всем вестям, касавшимся Висленева, выливалась в пространнейших письмах, которые она ему писала аккуратно каждую неделю.
Но вот прекратились и письма. Отчего и как? Это опять оставалось их же секретом, но корреспонденция прекратилась, и на лбу у Саши между бровями стала набегать тонкая морщинка.
Так стояли дела в последний год пребывания Висленева в университете, когда Саше Гриневич только что минуло восемнадцать лет, а ему исполнилось двадцать четыре года. Окончательно же Висленев потерял свою невесту следующим образом.
Приехал Висленев домой, определился на службу в губернскую канцелярию; служит, сводит знакомства. Саша выезжает мало, однако и не избегает выездов, показывается с другими на губернских вечерах, раутах; и весела она, и спокойна, и не отказывается от танцев. С Висленевым холодна. В городе решили, что дело между ними кончено. Разные лица, то самой Саше, то ее родителям, начали делать предложения. Сначала ее руки искал генерал Синтянин, если не очень важное, то очень влиятельное лицо в районе губернии, вдовец, с небольшим пятидесяти лет, имеющий хорошее содержание и двухлетнюю глухонемую дочь. Предложение генерала было отклонено, чему, впрочем, никто и не удивился, потому что хотя Синтянин еще бодр и свеж, и даже ловок настолько, что не боялся соперничества молодых людей в танцах, но про него шла ужасная слава. Помнили, что когда он, десять лет тому назад, приехал сюда из Петербурга в первом штаб-офицерском чине, он привез с собою экономку Эльвиру Карловну, чрезвычайно кроткую петербургскую немку. Эльвира Карловна не была принята нигде во все годы, которые она провела в должности экономки у генерала. Красотою ее, хотя и довольно стереотипною, по беспредельной кротости выражения, можно было любоваться только случайно, когда она, глядя в окно, смаргивала с глаз набегавшие на них слезы или когда из-за оконной ширмы видно было ее вздрагивающее плечо. Она была всегда если не в слезах, то в страхе, — так ее все себе и представляли, и связывали это представление с характером генерала Синтянина. А какой это был характер, про то Бог один и ведал, хотя по наружности и приемам генерал был человек очень мягкий, даже чересчур мягкий. Для женщин Синтянин был особенно антипатичен, потому что он на словах был неумытно строг к нравам; трактовал женщин несовершеннолетними, требующими всегдашней опеки, и цинически говорил, что «любит видеть, как женщина плачет». Ко всему же этому у генерала Синтянина, человека очень стройного и высокого роста, при правильном и бледном матовом лице и при очень красиво павших сединах, были ужасные, леденящие глаза, неопределенного темно-серого цвета, без малейшего отблеска. Такой цвет имеет пух под крыльями сов. Свыкнуться с этими глазами было невозможно.
Но и этого мало: генерал Синтянин нашел еще средство восстановить против себя всех женщин города одним поступком, которого неловкость даже сам сознавал и для объяснения которого снизошел до того, что предпослал ему некоторые оправдания, несмотря на небрежение свое к общественному мнению.
Дело в том, что у Эльвиры Карловны, в то время, когда она приехала с Синтяниным из Петербурга, была десятилетняя дочь, Флора, от законного брака Эльвиры Карловны с бедным ювелирным подмастерьем из немцев, покинутым женою в Петербурге неизвестно за что и почему! (Конечно, «не сошлись характерами»). Когда девочке минуло одиннадцать лет, ее стали посылать в пансион. Генерал в качестве «благодетеля» вносил за нее деньги, а через семь лет неожиданно вздумал завершить свои благодеяния, сделав ее своею законною женой «пред лицом неба и людей». Таково было его собственное выражение.
Пустых и вздорных людей этот брак генерала тешил, а умных и честных, без которых, по Писанию, не стоит ни один город, этот союз возмутил; но генерал сумел смягчить неприятное впечатление своего поступка, объявив там и сям под рукой, что он женился на Флоре единственно для того, чтобы, в случае своей смерти, закрепить за нею и за ее матерью право на казенную пенсию, без чего они могли бы умереть с голоду.
Объяснение это произвело свое впечатление и даже приобрело генералу в губернском обществе ретивых защитников, находивших брак его делом очень благородным и предусмотрительным. В самом деле, бедная по состоянию, безвестная по происхождению, запуганная Флора едва ли бы могла сделать себе партию выше генеральского писаря.
Большинство общества решило, что Флоре все-таки гораздо лучше быть генеральшею, чем писаршей, и большинство этим удовольствовалось, а меньшинство, содержащее необходимую для состояния города «праведность трех», только покивало головами и приумолкло.
Дело во всяком случае совершено, и никто не был властен в нем ничего ни поправлять, ни перерешать. Дом генерала всегда был заперт для всех. Далее генеральского кабинета, куда к нему являлись разные люди по делам, в дальнейшие его апартаменты не проникал никто. С женитьбой генерала ничто не переменилось. Синтянин и венчался с Флорой тихо, без всякой помпы, в походной церкви перехожего армейского полка; визитов с женой никому не делал, и ни жена его, ни теща по-прежнему не показывались нигде, кроме скромной приходской церкви. Они обе переменили лютеранство на православие и были чрезвычайно богомольны, а может быть, даже и религиозны. Пелены, занавесы, орари и воздухи приходской церкви — все это было сделано их руками, и приходское духовенство считало Флору и ее мать ревностнейшими прихожанками.
Так прошло десять лет. Город привык видеть и не видать скромных представительниц генеральского семейства, и праздным людям оставалось одно удовольствие решать: в каких отношениях находятся при генерале мать и дочь, и нет ли между ними соперничества? Соперничества между ними, очевидно, не было, и они были очень дружны. К концу десятого года замужества Флоре, или по-нынешнему Анне Ивановне, Бог дал глухонемую дочку, которую назвали Верой.
Эльвиры Карловны скоро не стало. Густой, черный вуаль Флоры, никогда не открывавшийся на улице и часто спущенный даже в темном углу церкви, был поднят, когда она стояла посреди храма у изголовья гроба своей матери. На бедную Флору смотрели жадно и со вниманием, и она, доселе, по общему признанию, считавшаяся некрасивою, к удивлению, не только никому отнюдь не казалась дурною, но напротив, кроткое, бледное, с легким золотистым подцветом лицо ее и ее черные, глубокие глаза, направленные на одну точку открытых врат алтаря, были найдены даже прекрасными.
Старый священник, отец Гермоген, духовник усопшей Эльвиры Карловны, духовник и Флоры, когда ему заметили, что последняя так неожиданно похорошела, отвечал: «не так вы выражаетесь, она просияла».
Флора не плакала и не убивалась при материном гробе, и поцеловала лоб и руку покойницы с таким спокойствием, как будто здесь вовсе и не шло дело о разлуке. Да оно и в самом деле не имело для Флоры значения, разлуки: они с матерью шли друг за другом.
Через месяц после похорон Эльвиры Карловны в той же церкви отпевали Флору. Быстрая, хотя и очень спокойная кончина ее дала повод к некоторым толкам, еще более увеличивавшим общий страх к характеру генерала Синтянина. Как ни замкнут был для всех дом Синтянина, но все-таки из него дошли слухи, что генерал, узнав, по чьему-то доносу, что у одного из писарей его канцелярии, мараковавшего живописью, есть поясной портрет Флоры, сделанный с большим сходством и искусством, потребовал этот портрет к себе, долго на него смотрел, а потом тихо и спокойно выколол на нем письменными ножницами глаза и поставил его на камине в комнате своей жены. Что же касается до самого художника, то он был отчислен от канцелярии генерала и отдан в другую команду, в чьи-то суровые руки; несчастный не вынес тяжкой жизни, зачах и умер. Пред кончиною он не хотел причащаться из рук госпитального священника, а просил призвать к нему всегдашнего духовника его, отца Гермогена; исповедался ему, причастился и умер так спокойно, как, по замечанию некоторых врачей, умеют умирать одни русские люди. Через неделю этому же отцу Гермогену исповедала грехи свои и отходившая Флора, а двое суток позже тот же отец Гермоген, выйдя к аналою, чтобы сказать надгробное слово Флоре, взглянул в тихое лицо покойницы, вздрогнул, и, быстро устремив взор и руки к стоявшему у изголовья гроба генералу, с немым ужасом на лице воскликнул: «Отче благий: она молит Тебя: молитв ее ради ими же веси путями спаси его!» — и больше он не мог сказать ничего, заплакал, замахал руками и стал совершать отпевание.
Генерал Синтянин овдовел и остался жить один с глухонемою дочкой; ему показалось очень скучно; он нашел, что для него не поздно еще один раз жениться, и сделал предложение Александре Ивановне Гриневич. Та, как выше сказано, предложение это отклонила, и генерал более за нее не сватался; но в это же время отец Саши, старый инспектор Гриневич, ни село ни пало, получил без всякой просьбы чистую отставку. В городе проговорили, что это не без синтянинской руки, но как затем доктору Гриневичу, не повинному ни в чем, кроме мелких взяток по должности (что не считалось тогда ни грехом, ни пороком), опасаться за себя не приходилось, то ему и на мысль не вспадало робеть пред Синтяниным, а тем более жертвовать для его прихоти счастием дочери. Об этом и речи не было в семейных советах Гриневичей. Они только сократили свои расходы и продолжали жить тихо и смирно на свои очень умеренные средства. Люди их, однако, не позабывали, и женихи к Alexandrine сватались и бедные, и богатые, и не знатные, и для губернского города довольно знатные, но Сашенька всем им отказ и отказ. Благодарит и отвечает, что она замуж не хочет, что ей весело с отцом и с матерью. Ее, наконец, и оставили в покое. Прошел другой год, как уже Висленев служил, и вдруг разражается над ним туча: его арестовывают и увозят; старуха мать его в страшном отчаянии спешит в Петербург, ходит там, хлопочет, обивает пороги, и все безуспешно. «Иосафу спасенья нет», — пишет она родной сестре, майорше, Катерине Астафьевне Форовой. Весть эта, разумеется, содержится в секрете, но, однако, Катерина Астафьевна не таит ее от Гриневичей, потому что это все равно что одна семья. Старик Гриневич, врач старого закала, лечивший людей бузиной да ромашкой, и то перекрестясь, и писавший вверху рецептов: «cum Deo» 1, разведав, в чем заключается вина Иосафа Платоновича, и узнав, что с ним и по его вине обречены к страданиям многие, поморщился и сказал дочери:
— Ну, знаешь, Саша, воля твоя, я хотя Висленевым старый друг и очень жалею Иосафа Платоновича, но хотелось бы мне умереть с уверенностью, что ты за него замуж не пойдешь.
— Ваша воля, папа, будет исполнена, — спокойно отвечала Саша.
Старик даже подскочил на месте: он считал свою дочь очень доброю, благоразумною, но такого покорного ответа, такого спокойного согласия не ожидал от нее.
— Я тебя, Саша, совсем не стесняю и заклинаю... Нет, нет! Спаси меня от этого, Боже! — продолжал он, крестясь и поднимая на лоб очки, — покидать человека в несчастии недостойно. И пожелай ты за него выйти, я, скрепя сердце, дам согласие. Может быть, даже сами со старухою пойдем за тобой, если не отгонишь, но...
— Да полно тебе, Иван Петрович, на старости лет романтические слова говорить! — остановила его жена.
— Нет, постой, — продолжал доктор. — Это не роман, а дело серьезное. Но если, друг мой Сашенька, взвесить, как ужасно пред совестью и пред честными людьми это ребячье легкомыслие, которое ничем нельзя оправдать и от которого теперь плачут столько матерей и томятся столько юношей, то...
— Я понимаю, папа, что это грех и преступление.
— — И хорошо еще, если он глубоко, искренно верил тому, что гибель тех, кого губил он, нужна, а если же к тому он искренно не верил в то, что делал... Нет, нет! не дай мне видеть тебя за ним, — вскричал он, вскочив и делая шаг назад. — Нет, я отрекусь от тебя, и если Бог покинет меня силою терпенья, то... я ведь еще про всякий случай врач и своею собственною рукой выпишу pro me acidum borussicum 2.
Старик закрыл одною рукой глаза, а другою затряс в воздухе, как будто отгоняя от себя страшное видение, и отвернулся.
Саша приблизилась к отцу, отвела тихо его руку от глаз, прижала его голову к своей груди и, поцеловав отца в лоб, тихо шепнула ему:
— Успокойся, успокойся, мой добрый папа. Чего ты не хочешь, того не будет.
Саша в обыкновенном, спокойном; житейском разговоре с отцом и с матерью всегда говорила им вы; но когда заходила речь от сердца, она безнамеренно устраняла это вы и говорила отцу и матери дружеское ты.
— Нет, — заговорил опять, успокоившись, старик, — ты как следует пойми меня, дитя мое. Я ведь отнюдь не упрашиваю тебя сделаться эгоисткой! Напротив, я заповедываю тебе, жертвуй собой, дитя мое, жертвуй собой на пользу ближнего и не возносись своею чистотой. Правому нечего гордиться пред неправыми, ибо неправый может исправиться, ибо в живой душе всегда возможно обновление. Неодолимым страстям есть известное оправдание в их силе и неодолимости; но с человеком, у которого нет... вовсе этого... как бы это тебе назвать... с человеком...
— Безнатурным, ты хочешь сказать?
1 С Богом (лат.).
2 Для себя прусскую кислоту (лат.).
— Да; вот именно ты это прекрасно выразила, с безнатурным человеком только измаешься и наконец сделаешься тем, чем никогда не хотела бы сделаться.
Весь следующий день Саша провела в молитве тревожной и жаркой: она не умела молиться тихо, и в спокойствии; а на другой, на третий, на четвертый день она много ходила, гуляла, думала и наконец в сумерки пятого дня вошла в залу, где сидел ее отец, и сказала ему:
— Нет, знаешь что, папа, из всех твоих советов я способна принять только один.
— Скажи какой, дитя мое?
— Лучше сделать что-нибудь с расчетом и упованием на свои силы, чем браться за непосильную ношу, которую придется бросить на половине пути. Я положила себе предел самый малый: я пойду замуж за человека благонадежного, обеспеченного, который не потребует от меня ни жертв, ни пылкой любви, к которой я неспособна.
Старик щелкнул пальцем по табакерке, потянул носом большую понюшку и, обмахнувшись энергически платком, взглянул на дочь и спросил:
— Ты, Александра, это шутишь? За кого это ты собираешься?
— Папа, я иду за генерала.
Старый Гриневич взглянул на дочь и тихо шепнул:
— Полно, Саша, шутить! — перекрестил ее и пошел в свой маленький кабинетик.
Он был уверен, что весь этот разговор веден его дочерью просто ради шутки; но это была с его стороны большая ошибка, которая и обнаружилась на другой же день, когда старик и старуха Гриневичи сидели вместе после обеда в садовой беседке, и к ним совершенно неожиданно подошла дочь вместе с генералам Синтяниным и попросила благословения на брак.
— Да-с, вы нас благословите-с! — прибавил тихим, но металлическим голосом генерал и, немного сморщась, согнул свои ноги и опустился рядом с Сашей на колени.
Старики растерялись и тут же благословили.
Объяснения, которые после этого последовали у них наедине с дочерью, были по обычаю очень кратки и не выяснили ничего, кроме того, что Саше брак с Синтяниным приходится более всего по мыслям и по сердцу. Говорить более было не о чем, и дочь Гриневича была обвенчана с генералом.
По поводу этой свадьбы пошли самые разнообразные толки. Поступок молодой генеральши объясняли алчностью к деньгам и низостью ее характера, и за то предсказывали ей скорую смерть, как одной из жен Рауля Синей Бороды, но объяснения остаются и доселе в области догадок, а предсказания не сбылись.
Теперь уже прошло восемь лет со дня свадьбы, а Александра Ивановна Синтянина жива и здорова, и даже отнюдь не смотрит надгробною статуей, с которой сравнивали Флору. Александра Ивановна, напротив, и полна, и очень авантажна, и всегда находит в себе силу быть в меру веселою и разговорчивою.
В чем заключается этот секрет полнеть и не распадаться в несчастии? (А что Александра Ивановна была несчастлива, в том не могло быть ни малейшего сомнения. Это было признано всеми единогласно.)
— Она бесчувственная деревяшка, — говорили одни, думая все разрешить этим приговором.
— Она суетна, мелка и фальшива; для нее совершенно довольно того, что она теперь генеральша, — утверждали другие.
— Да; но отчего же она не шла за Синтянина, когда он прежде просил ее руки? — ставили вопрос скептики для поддержания разговора.
— О, это так просто: ей тогда нравился Висленев, а когда бедный Жозеф попал в беду, она предпочла любви выгодный брак. Дело простое и понятное.
— Совершенно! Два заключения здесь невозможны.
Что она не любила Висленева или очень мало любила, это вполне доказывается тем, что даже внезапное известие об освобождении его и его товарищей с удалением на время в отдаленные губернии вместо Сибири, которую им прочили, Синтянина приняла с деревянным спокойствием, как будто какую-нибудь самую обыкновенную весть. Она даже венчалась именно в тот самый день, когда от Висленева получилось письмо, что он на свободе, и венчалась (как говорят), имея при себе это письмо в носовом платке. Ее бесчувственность, впрочем, едва ли и потом нуждалась в каких-нибудь подтверждениях, так как вскоре стало известно, что когда ей однажды, по поручению старой Висленевой, свояк последней, отставной майор Филетер Иванович Форов, прочел вслух письмо, где мать несчастного Иосафа горько укоряла изменницу и называла ее «змеею предательницей», то молодая генеральша выслушала все это спокойно и по окончании письма сказала майору:
— Филетер Иванович, не хотите ли закусить?
Добрые и искренние чувства в молодой генеральше не допускались, хотя лично она никому никакого зла и не сделала и с первых же дней своего брака не только со вниманием, но и с любовью занималась своею глухонемою падчерицей — дочерью умершей Флоры; но это ей не вменялось в заслугу, точно всякая другая на ее месте сделала бы несравненно больше. Говорили, что это для нее самой служит развлечением, так как двое собственных ее детей, которых она имела в первые годы замужества, умерли в колыбельном возрасте. Отца и мать своих любила Синтянина, но ведь они же были и превосходные люди, которых не за что было не любить; да и то по отношению к ним у нее, кажется, был на устах медок, а на сердце ледок. По крайней мере носились слухи, что будто, вскоре после замужества Александры Ивановны, генерал, ее супруг, вызвался исходатайствовать ее отцу его прежнее служебное место, но генеральша будто даже отклоняла это, хотела погордиться на стариковский счет.
И в самом деле, нечто в этом роде было, но было вот как: Гриневич посоветовался с дочерью, принять или не принять обязательное предложение?
Она спокойно отвечала отцу, что можно принять и не принять.
— То-то, кажется, нет зазора принять! — резонировал старик.
— Пожалуй, зазора нет, — ответила ему дочь.
— А не принять как будто еще достойнее?
— А уж про это и говорить нечего.
— Так я сам лучше поблагодаря и не приму?
— Сделавши так, ты, папа, поступишь как следует.
— Правда: ведь я, дитя мое, уж стар.
— Конечно, тебе уж шестьдесят пять лет!
— Ну да, уж не до службы, а денег хоть и мало...
— Да не на что тебе их больше, папа.
— Совершенная правда! ты пристроилась, а мы стары. Нет; да мимо меня идет чаша сия! — решил, махнув рукой, старый Гриневич и отказался от места, сказав, что места нужны молодым, которые могут быть на службе гораздо полезнее старика, а мне-де пора на покой; и через год с небольшим действительно получил покой в безвестных краях и три аршина земли на городском кладбище, куда вслед за собою призвал вскоре и жену.
Генеральша осиротела.
Нива смерти зреет быстро. Вслед за Гриневичами умерла вскоре и старуха Висленева. Проживая с год при сыне в одном из отдаленных городов и затем в Петербурге, она вернулась домой с окончившею курс красавицей дочерью, Ларисою, и не успела путем осмотреться на старом пепелище в своем флигельке, как тоже скончалась.
С Александрой Ивановной старуха вначале избегала встречи и сближения, но в последнее время своей жизни пламенела к ней благоговейною любовью.
Этот всех удививший переворот в чувствах доживавшей свой век Висленевой к молодой генеральше не имел иных объяснений, кроме старушечьей прихоти и фантазии, тем более что произошло это вдруг и неожиданно.
Старуха в тяжкой болезни однажды спала после обеда и позвонила. В комнатах никого не случилось, кроме Синтяниной, пришедшей навестить Ларису. Генеральша взошла на зов старушки, и через час их застали обнявшихся и плачущих.
С этих пор собственное имя Александры Ивановны не произносилось устами умиравшей старушки, а всякий раз, когда она хотела увидать генеральшу, она говорила: «Пошлите мне мою праведницу».
Умирая, Висленева не только благословила Синтянину, ей же, ее дружбе и вниманию поручила и свою дочь, свою ненаглядную красавицу Ларису.
Все знали, что эта дружба не доведет Ларису до добра, ибо около Синтяниной все фальшь и ложь.
Ныне, то есть в те дни, когда начинается наш рассказ, Александре Ивановне Синтяниной от роду двадцать восемь лет, хотя, по привычке ни в чем не доверять ей, есть охотники утверждать, что генеральше уже стукнуло тридцать, но она об этом и сама не спорит. Физическая жизнь ее в полном расцвете. Довольно заметная полнота стана генеральши нимало не портит ее высокой и стройной фигуры, напротив, эта полнота идет ей. Полные руки ее с розовыми ногтями достойны быть моделью ваятеля; шея бела, как алебастр, и чрезвычайно красиво поставлена в соотношении к бюсту, служащему ей основанием. Густые, светло-каштановые волосы слегка волнуются, образуя на всей голове три-четыре волны. Положены они всегда очень просто, без особых претензий. Все свежее лицо ее дышит здоровьем, а в больших серых глазах ясное спокойствие души. Она не блондинка, но всем кажется блондинкою: это тоже какой-то обман. В лице ее есть постоянно некоторая тень иронии, но ни одной черты, выражающей злобу. Походка ее плавна, все движения спокойны, тверды и решительны.
Образ жизни генеральши в ее городской квартире и в загородном хуторе, где она проводит большую часть своих дней в обществе глухонемой Веры, к крайнему неудовольствию многих, почти совсем неизвестен.
Общество видит только нечто странное в этих беспрестанных перекочевках генеральши из городской квартиры на хутор и с хутора назад в город и полагает, что тут что-нибудь да есть; но тут же само это общество считает все составляющиеся насчет Синтяниной соображения апокрифическими.
Но чем же живет она, что занимает ее и что дает ей эту неодолимую силу души, крепость тела и спокойную ясность полусокрытого взора? Как и чем она произвела и производит укрощение своего строптивого мужа, который по отношению к ней, по-видимому, не смеет помыслить о каком-либо деспотическом притязании?
Это долго занимало всех. Все уверены, что здесь непременно есть какая-нибудь история, даже очень важная и, может быть, страшная история. Но, как ее проникнуть? Вот вопрос.
Глава вторая. Вся впереди.
Во флигеле, построенном в глубине двора Висленевых и выходящем одною стороной в старый, густой сад, оканчивающийся крутым обрывом над Окою, живет сама собственница дома, Лариса Платоновна Висленева, сестра знакомого нам Иосафа Платоновича Висленева, от которого так отступнически отреклась Александра Ивановна. Флигель построен с большим комфортом. По довольно высокому крылечку, равному высоте нижнего полуэтажа, вы входите в светлые, но очень тесные сени, в которых только что можно поворотиться. Отсюда дверь в переднюю тоже очень чистую, с двумя окнами на двор; из передней налево большая комната с двумя окнами в одной стене и с итальянским окном в другой. Эта комната называется «Жозефов кабинет». Несмотря на то, что Иосаф Платонович здесь давно не живет, комната его сохраняет обстановку кабинета человека хотя и небогатого, но не бедного. Мягкие диваны кругом трех стен, два шкафа с книгами; большой письменный стол, покрытый зеленым сукном с кистями по углам, хорошие шторы на окнах, тяжелые занавесы на дверях. По стенам висят несколько гравюр и литографий, между которыми самое видное место занимают Ревекка с овцами у колодца; Лаван, обыскивающий походный шатер Рахили, укравшей его богов, и пара замечательных по своей красоте и статности лошадей в английских седлах; на одной сидит жокей, другая идет в поводу, без седока. Обе лошади в своем роде совершенство: на них нельзя не заглядеться после горбатых верблюдов, дремлющих на библейских картинах. Оцененные губы первого коня показывают, что он грызет и сжимает железо удил, но идет мирно и тихо, потому что знает власть и силу узды, но другой конь... О, ему опыт еще незнаком. Но это сказочный конь, которому только нужно прикосновение руки сказочного же царевича, и вихрь-конь взовьется выше леса стоячего.
Чтобы покончить описание кабинета отсутствующего хозяина, должно еще упомянуть о двух вещах, помещающихся в белой кафельной нише, на камине: здесь стоит высокая чайная чашка, с массивною позолотою и с портретом гвардейского полковника, в мундире тридцатых годов, и почерневшие бронзовые часы со стрелкою, остановившеюся на пятидесяти шести минутах двенадцатого часа.
На этой чашке портрет отца нынешних владельцев дома, Платона Висленева, а часовая стрелка стоит на моменте его смерти. С тех пор часы эти не идут в течение целых восемнадцати лет.
Вторая комната — небольшой зал, с окнами, выходящими в сад, и стеклянною дверью, ведущею на террасу, с которой широкими ступенями сходят в сад. Убранство комнаты не зальное и не гостинное, а то и другое вместе. Здесь есть и мягкая мебель, и буковые стулья, и зеркало, и рояль, заваленная нотами. Из залы двери ведут в столовую и в спальню Ларисы. Спальня Ларисы тех же размеров, как и кабинет ее брата. Здесь также два окна в одной стене и одно широкое, тройное, «итальянское» окно в другой. Все эти окна выходят в сад: два справа затенены густою зеленью лип, а над итальянским окном, пред которым расчищена разбитая на клумбы площадка, повешена широкая белая маркиза с красными прошвами. Таким образом в комнату открыт доступ аромату цветов и удалены палящие лучи солнца, извлекающие благоухание из резеды, левкоев и гелиотропов. Мебель обита светлым ситцем, которым драпированы и двери, и окна. Кровать заменена диваном с подъемною подушкой, пред диваном у изголовья небольшой круглый столик, в стороне две этажерки с книгами.
Описав дом, познакомим читателей с его одинокою жилицей.
Рассказ этот будет короток, потому что и вся жизнь Ларисы еще впереди.
Она окончила институтский курс семнадцати лет и по выходе из заведения жила с матерью и братом в Петербурге. Перечитала гибель книг, перевидала массы самых разнообразных лиц и не вошла ни в какие исключительные отношения ни с кем.
По смерти матери, она опять было уехала в Петербург к брату, но через месяц стала собираться назад, и с тех пор в течение трех с половиною лет брата не видала.
Прибыв домой, она появилась первой Александре Ивановне Синтяниной и объявила ей, что жизнь брата ей не понравилась и что она решилась жить у себя в доме одна. Другое лицо, которое увидало Ларису в первый же час ее приезда, была тетка ее, родная сестра ее матери, Катерина Астафьевна Форова, имя которой было уже упомянуто. Катерина Астафьевна, женщина лет сорока пяти, полная, нервная, порывистая, очень добрая, но горячая и прямая необыкновенно. Узнав о внезапном возвращении племянницы из Петербурга, она влетела, как бомба, в комнату, где сидела Лариса, кинулась на шею, дрожа и всхлипывая, и наконец совсем разрыдалась. Лариса поцеловала у тетки руку и с той же минуты не то полюбила, не то привязалась к ней. Сойдясь близко с теткой, она сошлась и с мужем ее, пятидесятилетним майором из военных академистов. Майор Форов, Филетер Иванович, толстоватый, полуседой, здоровый и очень добрый человек, ведущий в отставке самую оригинальную жизнь.
Майор Форов и сам очень легко сблизился с Ларисой и посещал ее ежедневно. У них были общие точки прикосновения, и Филер Иванович очень нравился жениной племяннице. Впрочем, Форов нравился всем, не исключая и тех, кто его не любил. Он нравился за свои энциклопедические познания и за характер, который сам называл «примитивным». Александра Ивановна употребила все усилия сойтись с Ларисой как можно ближе и дружественнее и, кажется, достигла этого, по крайней мере по внешности. Они виделись друг с другом ежедневно, когда Синтянина была в городе, а не на хуторе, и несмотря на неравенство их лет (где играла роль цифра 10), были друг с другом на ты. Чего же больше? Любили ли они одна другую?
Да, Синтянина любила Ларису горячо и искренно.
Лариса высока и очень стройна. Легкая фигура ее имеет свою особенность, и особенность эта заключается именно в том, что у нее не только была фигура, но у нее была линия; видя ее раз, ее можно было нарисовать всю одною чертою от шляпки до шлейфа. Ее красивая голова кажется, однако, несколько велика, от целого моря черных волос. У ней небольшое, продолговатое лицо с тонким носом, слегка подвижными и немного вздутыми ноздрями. При ее привычке меньше говорить и больше слушать, пунцовые губы ее, влажные, но без блеска, всегда, в самом спокойствии своем, готовы как будто к шепоту. Можно думать, что она отвечает и возражает на все, но только не удостоивая никого сообщением этих возражений. Она, как сказано, брюнетка, жгучая брюнетка. В ней мало русского, но она и не итальянка, и не испанка, а тем меньше гречанка, но южного в ней бездна. У нее совершенно особый тип, — несколько напоминающий что-то еврейское, но не похожее ни на одну еврейку. Еврейским в ней отдает ее внутренний огонь и сила. Цвет лица ее бледный, но горячо-бледный, матовый; глаза большие, черные, светящиеся электрическим блеском откуда-то из глубины, отчего вся она кажется фарфоровою лампой, освещенною жарким внутренним светом. Всякое ее движение спокойно и даже лениво, хотя и в этой лени видимо разлита спящая, но и во сне своем рдеющая, неутомимая нега. По виду она всегда спокойна; но покой ее видимо полон тревоги. Она совсем не кокетка, она вежлива и наблюдательна, и в ее наблюдательности кроется для нее источник ожесточающих раздражений. Она ребенок по опытности, и сама ничем не участвовала в жизни, но, судя по выражению ее лица, она всего коснулась в тишине своего долгого безмолвия; она отведала горьких лекарств, самою ею составленных для себя по разным рецептам, и все эти питья ей не по вкусу. Ее интересуют только пределы вещей и крайние положения. Ей хочется собрать и совместить, как в фокусе стекла, то, что вместе не собирается и несовместимо.
Настоящее у Ларисы такое: неделю тому назад некто Подозеров, небогатый из местных помещиков, служащий по земству, сделал ей предложение. Он был давний ее знакомый, она знала, что он любит ее...
Лариса, выслушав Подозерова, дала ему слово обдумать его предложение и ответить ему на днях положительно и ясно.
Этого ответа еще не дано.
Глава третья. Глава, которую можно поставить в начале.
В мае месяце недавно прошедшего года, четыре часа спустя после жаркого полудня, над крутым обрывом, которым заканчивался у реки сад Висленевых, собрались все, хотя отчасти, знакомые нам лица. Лариса Висленева сидела на широкой доске качелей, подвешенных на ветвях двух старых кленов. Она держалась обеими руками за одну веревку, и, положив на них голову, смотрела вдаль за реку, на широкую, беспредельную зеленую степь, над которою в синеве неба дотаивало одинокое облачко. Шагах в трех от качель, на зеленой деревянной скамейке помещались Катерина Астафьевна Форова и генеральша Синтянина. Первая жадно курила папироску из довольно плохого табаку, а вторая шила и слушала повесть, которую читал Форов. Майор одет в черный статский сюртук и военную фуражку с кокардой, по жилету у него виден часовой ремешок, на котором висит в виде брелока тяжелая, массивная золотая лягушка с изумрудными глазами и рубиновыми лапками. На гладком брюшке лягушки мелкою искусною вязью выгравировано: «Нигилисту Форову от Бодростиной». Дорогая вещь эта находится в видимом противоречии с прочим гардеробом майора. Филетер Иванович теперь читает: правою рукой он придерживает листы лежащей у него на коленях книги, а левою — машинально дергает толстый, зеленый бумажный шнурок, привязанный к середине доски, на которой сидит Лариса. Чтение идет плавно и непрерывно, качание тоже.
Есть здесь и еще один человек: он лежит в траве над самым обрывом, спиной к реке, лицом к качающейся Ларисе. Это Подозеров. Ему на вид лет тридцать пять; одет он без претензии, но опрятно; лицо у него очень приятное, но в нем, может быть, слишком много серьезности и нервного беспокойства, что придает ему минутами недоброе выражение. Подозеров как бы постоянно или что-то вспоминает, или ожидает себе чего-то неприятного и с болезненным нетерпением сдвигает красивые брови, морщит лоб и шевелит рукою свои недлинные, но густые темно-русые волосы с раннею сединой в висках.
Чтение, начатое назад тому с полчаса, неожиданно прервано было веселым и довольно громким смехом Катерины Астафьевны Форовой, смехом, который поняла только одна тихо улыбавшаяся Синтянина. Лариса же и Подозеров его даже и не заметили, чтец только поднял удивленные глаза и спросил баском свою жену:
— Что ты это рассыпалась, Тора?
— Для кого ты читаешь, бедный мой Форов? Всякий раз заставят его читать, и никто его не слушает.
— Ну и что же такое? — отвечал майор.
— Ничего. Ты читаешь, Лариса где-то витает: Подозеров витает за нею; мы с Сашей еще над первою страницей задумались, а ты все читаешь да читаешь!
— Ну и что же такое? я же в прибыли: я, значит, начитываюсь и умнею, а вы выбалтываетесь.
— И глупеем?
— Сама сказала, — ответил, шутя, Форов и, достав из кармана кошелек с табаком, начал крутить папироску.
Жена долго смотрела на майора с улыбкой и наконец спросила:
— Вы, господин Форов, пенсион нынче получили?
— Разумеется, получил-с, — отвечал Форов и, достав из кармана конвертик, подал его жене.
— Вот вам все полностию: тридцать один рубль.
— А шестьдесят копеек?
— Положение известное! — отвечал майор, раскуривая толстую папироску.
Синтянина взглянула на майора и рассмеялась.
— Да чего же она в самом деле спрашивает? — заговорил Филетер Иванович, обращая свои слова к генеральше, — ведь уж сколько лет условлено, что я ей буду отдавать все жалованье за удержанием в свою пользу в день получения капитала шестидесяти копеек на тринкгельд.
— Нет, я что-то этого условия не помню! Когда ты за мной ухаживал, ты мне ни о каких тринкгельдах тогда не говорил, — возразила майорша.
— Ну, ухаживать за тобой я не ухаживал.
— Так зачем же ты на мне женился?
Майор тихонько улыбнулся и проговорил:
— Что же, женился просто: вижу, женщина в несчастном положении, дай, думаю себе, хоть кого-нибудь в жизни осчастливлю.
— Да, — проговорила Катерина Астафьевна, ни к кому особенно не обращаясь: — чему, видно, быть, того не миновать. Нужно же было, чтоб я решила, что мне замужем не быть, и пошла в сестры милосердия; нужно же было, чтобы Форова в Крыму мне в госпиталь полумертвого принесли! Все это судьба!
— Нет, французская пуля, — отвечал Форов.
— Ты, неверующий, молчи, молчи, пока Бог постучится к тебе в сердце.
— А я не пущу.
— Пустишь, и сам позовешь, скажешь: «взойди и сотвори обитель».
Вышла маленькая пауза.
— И Сашина свадьба тоже судьба? — спросила Лариса.
— А еще бы! — отвечала живо Форова. — Почем ты знаешь... может быть, она приставлена к Вере за молитвы покойной Флорушки.
— Ах, полноте, тетя! — воскликнула Лариса. — Я знаю эти «роковые определения»!
— Неправда, ничего ты не знаешь!
— Знаю, что в них сплошь и рядом нет ничего рокового. Неужто же вы можете ручаться, что не встреться дядя Филетер Иванович с вами, он никогда не женился бы ни на ком другом?
— Ну, на этот раз, жена, положительно говори, что никогда бы и ни на ком, — отвечал Форов.
— Ну, не женились бы вы, например, на Александрине?
— Ни за что на свете.
— Браво, браво, Филетер Иванович, — воскликнула, смеясь, Синтянина.
— А почему? — спросила Лариса.
— Вы всегда все хотите знать «почему»? Бойтесь, этак скоро состареетесь.
— Но я не боюсь и хочу знать: почему бы вы не женились на Саше?
— Говорите, Филетер Иванович, мне уж замуж не выходить, — вызвала Синтянина.
— Ну, извольте: Александра Ивановна слишком умна и имеет деспотический характер, а я люблю свободу.
— Не велик комплимент тете Кате! Ну, а на мне бы вы разве не женились? Я ведь не так умна, как Александрина.
— На вас?
— Да, на мне.
Форов снял фуражку, три раза перекрестился и проговорил:
— Боже меня сохрани!
— На мне жениться?
— Да, на вас жениться: сохрани меня грозный Господь Бог Израилев, карающий сыны сынов даже до седьмого колена.
— Это отчего?
— Да разве мне жизнь надоела!
— Значит, на мне может жениться только тот...
— Тот, кто хочет ада на земле, в надежде встретиться с вами там, где нет ни печали, ни воздыхания.
— Вот одолжил! — воскликнула, рассмеявшись, Лариса, — ну, позвольте, кого бы вам еще из наших посватать?
— Глафиру Васильевну Бодростину, — подсказал, улыбаясь, Подозеров.
— Ах, в самом деле Бодростину! — подхватила Лариса.
— Кого ни сватайте, все будет напрасно.
— Но вы ее кавалер «лягушки».
— «Золотой лягушки», — отвечал Форов, играя своим ценным брелоком. — Глафире Васильевне охота шутить и дарить мне золото, а я философ и беру сей презренный металл в каком угодно виде, и особенно доволен, получая кусочек золота в виде этого невинного создания, напоминающего мне поколение людей, которых я очень любил и с которыми навсегда желаю сохранить нравственное единение. Но жениться на Бодростиной... ни за что на свете!
— На ней почему же нет?
— А почему? Потому, что мне нравится только особый сорт женщин: умные дуры, которые, как все хорошее, встречаются необыкновенно редко.
— Так это я, по-твоему, дура? — спросила, напуская на себя строгость, Катерина Астафьевна.
— А уж, разумеется, не умна, когда за меня замуж пошла, — отвечал Форов. — Вот Бодростина умна, так она в золотом терему живет, а ты под соломкою.
— Ну, а бодростинская золотая лягушка-то что же вам такое милое напоминает? — дружески подшучивая над майором, спросил Подозеров.
— Золотая лягушка напоминает мне золотое время и прекрасных умных дураков, из которых одних уж нет, а те далеко.
— Она напоминает ему моего брата Жозефа, — сказала Лариса.
— Ну, уж это нет-с, — отрекся майор.
— Почему же нет? Брат мой разве не женился по принципу, не любя женщину, для того только, чтобы «освободить ее от тягости отцовской власти», — сказала Лариса, надуто продекламировав последние шесть слов. Надеюсь, это мог сделать только «умный дурак», которых вы так любите.
— Нет-с; умные дураки этого не делали, умные дураки, которых я люблю, на такие вздоры не попадались, а это мог сделать глупый умник, но я с этим ассортиментом мало знаком, а, впрочем, вот поразглядим его!
— Как это поразглядите? Разве вы его надеетесь скоро видеть?
— А вы разве не надеетесь дожить до той недели?
— Что это за шарада? — спросила в недоумении Лариса.
— Как же, ведь он на днях приедет.
— Как на днях?
— Разумеется, — отвечал Форов. — Мой знакомый видел его в Москве; он едет сюда.
Присутствующие переглянулись.
«Это что-нибудь недоброе!» — мелькнуло во взгляде Ларисы, брошенном на Синтянину; та поняла, и сама немного изменясь в лице, сказала майору:
— Филетер Иванович, вы совсем бестолковы.
— Чем-с? Чем я бестолков?
— Да что же это вы нам открываете новости по капле?
— Чем же я бестолковее вас, которые мне и по капле не открыли, что вы этого не знаете?
— Откуда же мы могли это знать?
— А разве он не писал об этом Ларисе Платоновне?
— Ничего он не писал ей.
— Ну, а я почему мог это знать?
— Но вы, Филетер Иваныч, шутите это или вправду говорите, что он едет сюда? — спросила серьезно Лариса.
По дорожке, часто семеня маленькими ногами, шла девочка лет двенадцати, остриженная в кружок и одетая в опрятное ситцевое платье с фартучком. В руках она держала круглый поднос, и на нем запечатанное письмо.
Лариса разорвала конверт.
— Вы отгадали, это от брата, — сказала она и, пробежав маленький листок, добавила: — все известие заключается вот в чем (она взяла снова письмо и снова его прочитала): «Сестра, я еду к тебе; через неделю мы увидимся. Приготовь мне мою комнату, я проживу с месяц. Еду не один, а с Гор...»
— Не могу дальше прочесть, с кем он едет, — заключила она, передавая письмо Синтяниной.
— Не прочтете ли вы, Филетер Иванович?
Форов посмотрел на указанную ему строчку и, качнув отрицательно головой, передал письмо Подозерову.
— «Горданов», — прочел Подозеров, возвращая письмо Ларисе.
— Так вот он как будет называться ваш рок! — воскликнул майор.
— Филетер Иванович, вы несносны! — заметила ему с неудовольствием Синтянина, кинув взгляд на немного смущенного Подозерова.
— А я говорю только то, что бывает, — оправдывался майор, — братья всегда привозят женихов, как мужья сами вводят любовников...
— А что это за Горданов? — сухо спросила Лариса.
— Я, кажется, немножко знаю его, — отвечал Подозеров. — Он помещик здешней губернии и наш сверстник по университету... Я его часто видел в доме некиих господ Фигуриных, где я давал уроки, а теперь у него здесь есть дело с крестьянами о земле.
— Фигуриных! — воскликнула Лариса. — Вы видели его там? Он их знакомый?
— Кажется, даже родственник.
— Интересный господин? — полюбопытствовала Синтянина.
— М-мм! Как вам сказать...
Подозеров, казалось, что-то хотел сказать нехорошее о названном лице, но переменил что-то и ответил:
— Не знаю, право, мы с ним как-то не сладились.
— А вы кого же у Фигуриных учили?
— Там были мальчик Петр и девочки Наташа и Алина.
— А вы эту Алину учили?
— Да; она уже была великонька, но я ее учил.
— Хороша она?
— Нет.
— Умна?
— Не думаю.
— Добра?
— Господь ее знает, девушки ведь почти все кажутся добрыми. У малороссиян есть присловье, что будто даже «все панночки добры».
— «А только откуда-то поганые жинки берутся?» — докончил Форов.
— Эта Алина теперь жена моего брата.
— В таком случае малороссийское присловье прочь.
— Лариса, взгляни, — перебила дрогнувшим голосом Синтянина, глядя на ту дорожку, по которой недавно девочка принесла письмо от Висленева.
Лариса обернулась.
— Что там такое?
Синтянина бледнела и не отвечала.
По длинной дорожке от входных ворот шел высокий, статный мужчина. Он был в легком сером пиджаке и маленькой соломенной шляпе, а через плечо у него висела щегольская дорожная сумочка. Сзади его в двух шагах семенила давешняя девочка, у которой теперь в руках был большой портфель.
— Брат!.. Иосаф!.. Каков сюрприз! — вскрикнула Лариса, ступая с качелей на землю.
И с этим она рванулась быстрыми шагами вперед и побежала навстречу брату. Глава четвертая. Без содержания.
В наружности Иосафа Висленева не было ни малейшего сходства с сестрой: он был блондин с голубыми глазами и очень маленьким носом. Лицо его нельзя было назвать некрасивым и неприятным, оно было открыто и даже довольно весело, но на нем постоянно блуждала неуловимая тень тревоги и печали.
Лариса встретилась с братом на половине дорожки, они обнялись и поцеловались.
— Ты не ждала меня так скоро, Лара? — заговорил Висленев.
— То есть я ждала тебя, Жозеф, но не сегодня; я только сейчас получила твое письмо, что ты в Москве и едешь сюда с каким-то твоим товарищем.
— Да, с Гордановым.
— Он здесь с тобой?
Лариса оглядела дорожку.
— Да, он здесь, то есть здесь в городе, мы вместе приехали, но он остановился в гостинице. Я сам не думал быть сюда так скоро, но случайные обстоятельства выгнали нас из Москвы раньше, чем мы собирались. Ты, однако, не будешь на меня сердиться, что я этак сюрпризом к тебе нагрянул?
— Помилуй, что ты!
— Ну да, а я, видишь ли, ввиду этой скоропостижности, расчел, что мы застанем тебя врасплох, и потому не пригласил Горданова остановиться у нас.
— Напрасно, я не бываю врасплох, и твоему гостю нашлось бы место.
— Ну, все равно; он не захотел ни стеснять нас, ни сам стесняться, да тем и лучше: у него дела с крестьянами... нужно будет принимать разных людей... Неудобно это!
— А по крестьянским делам самый влиятельный человек теперь здесь мой добрый знакомый...
— Кто?
— Подозеров, твой товарищ.
— А-а! Я было совсем потерял его из виду, а он здесь; вот что значит долго не переписываться.
Висленев чуть заметно поморщился и отер лоб платком.
— Подозеров кстати и теперь у меня, — продолжала Лариса. — Пойдем туда или сюда, — показала она сначала на дом, а потом на конец сада, где оставались гости.
— Да, — встрепенулся брат. — У тебя гости, мне это сказала девочка, я потому и не велел тебя звать, а пошел сюда сам. Я уже умылся в гостинице и на первый раз, кажется, настолько опрятен, что в качестве дорожного человека могу представиться твоим знакомым.
— О, да, конечно! тем более, что это и не гости, а мои друзья; тут Форовы. Сегодня день рождения дяди.
— Ах, здесь бесценный Филетер Иваныч, — весело перебил Висленев. — А еще кто?
— Жена его и Alexandrine Синтянина.
— И она здесь?
Висленев вспыхнул на минуту и тотчас же весело проговорил:
— Вот еще интереснейшая встреча!
— Ты должен был знать, что ты ее здесь встретишь.
— Представь, что это-то у меня и из ума вон вышло. Да, впрочем, что же такое!
— Разумеется, ничего.
— Много немножко сразу: отставная дружба и изменившая любовь, но все равно! А еще кто такой здесь у тебя?
— Больше никого.
— Ну и прекрасно. Пойдем. Возьми вот только мой портфель: здесь деньги и бумаги, и потому я не хотел его там без себя оставить.
Лариса приняла из рук девочки портфель, и они, взявшись с братом под руку, пошли к оставшимся гостям.
Здесь между тем хранилось мертвое молчание.
Форов, жена его, Подозеров и Синтянина, — все четверо теперь сидели рядом на скамейке и, за исключением майора, который снова читал, все, не сводя глаз, смотрели на встречу брата с сестрой. Катерина Астафьевна держала в своей руке стынущую руку генеральши и постоянно ее пожимала, Синтянина это чувствовала и раза два отвечала легким благодарным пожатием.
Брат и сестра Висленевы подходили.
Катерина Астафьевна в это время взяла из рук мужа книгу, кинула ее в траву, а сама тихо шепнула на ухо Синтяниной: «Саша...»
— Ничего, — проговорила также шепотом Синтянина, — теперь все прошло.
Сделав над собою видимое усилие, она вызвала на лицо улыбку и весело воскликнула навстречу Висленеву:
— Здравствуйте, Иосаф Платонович!
Гость неспешно подошел, с достоинством снял свою шляпу и поклонился всем общим поклоном.
— Я вас первая приветствую и первая протягиваю вам руку, — проговорила Синтянина.
Форова почувствовала в эту минуту, что вместе с последним словом другая рука генеральши мгновенно согрелась.
Висленев, очевидно, не ждал такого приветствия; он ждал чего-нибудь совсем в другом роде: он ждал со стороны отступницы смущения, но ничего подобного не встретил. Конечно, он и теперь заметил в ней небольшую тревогу, которой Александра Ивановна совсем скрыть не могла, но эта тревога так смела, и Александра Ивановна, по-видимому, покушается взять над ним верх.
Висленев решил тотчас же отпарировать это покушение, но сделал неосторожность.
Едва намеревался он, подав Синтяниной руку, поразить ее холодностью взгляда, она посмотрела ему в упор и весело воскликнула:
— Однако как же вы быстро умели перемениться. Почти узнать нельзя! Висленеву это показалось даже смешно, и он решил не сердиться, а отшучиваться.
— Я думаю, я изменился, как и все, — отвечал он.
— Ну, нет, вы больше всех других, кого я давно не видала.
— Вам незаметно, а вы и сами тоже изменились и...
— Ну да, — быстро перебила его на полуслове генеральша, — конечно, года идут и для меня, но между тем меня еще до сей поры никто не звал старухой, вы разве первый будете так нелюбезны?
— Помилуй Бог! — отвечал, рассмеявшись, Висленев. — Я поражен, оставив здесь вас скромным ландышем и видя вас теперь на том же самом месте...
— Не скажете ли пышною лилией?
— Почти. Но вот кто совсем не изменяется, так это Филетер Иванович! — обратился Висленев к майору. — Здравствуйте, мой «грубый материалист»!
Они поцеловались.
— Ничего не переменился! Только нос разве немножко покраснел, — воскликнул снова, обозревая майора, Висленев.
— Нос красен оттого, что у меня насморк вечный, как Вечный жид, — отвечал Форов.
— А вам сегодня сколько стукнуло?
— Да пятьдесят два, девять месяцев.
— Девять месяцев? Ах, да, у вас ведь особый счет.
— Конечно, как следует.
— А дети у вас есть?
— Не знаю, но очень может быть, что и есть.
— И опять все врет, — заметила жена.
Висленев подал руку Катерине Астафьевне.
— Вас, тетушка, я думаю, можно и поцеловать?
— Если тебе, милый друг, не противно, сделай милость, поцелуемся.
Висленев и Катерина Астафьевна три раза поцеловались.
— Вы переменились, но немного.
— Как видишь, все толстею.
Иосаф Платонович обернулся к Подозерову, протянул и ему руку, и приняв серьезную мину, посмотрел на него молча ласковым, снисходительным взглядом.
— Вы много изменились, — сказал Висленев, удерживая его руку в своей руке.
— Да, все стареем, — отвечал Подозеров.
— «Стареем»! Рано бы еще стареть-то!
— Ну нет, пожалуй, и пора.
— Вот и пора! чуть стукнет тридцать лет, как мы уж и считаем, что мы стареем. Вам ведь, я думаю, лет тридцать пять, не больше?
— Мне тридцать два.
— Изволите ли видеть, век какой! Вон у вас уже виски седые. А у меня будет к вам просьба.
— Очень рад служить.
— То есть еще и не своя, а приятеля моего, с которым я приехал, Павла Николаевича Горданова: с ним по лености его стряслось что-то такое вопиющее. Он черт знает что с собой наделал: он, знаете, пока шли все эти пертурбации, нигилистничанье и всякая штука, он за глаза надавал мужикам самые глупые согласия на поземельные разверстки, и так разверстался, что имение теперь гроша не стоит. Вы ведь, надеюсь, не принадлежите к числу тех, для которых лапоть всегда прав пред ботинком?
— Решительно не принадлежу.
— Вы за крупное землевладение?
— Ни за крупное, ни за дробное, а за законное, — отвечал Подозеров.
— Ну в таком случае вы наша опора! Вы позволите нам побывать у вас на днях?
— Сделайте милость, я дома каждое утро до одиннадцати часов.
— Впрочем... сестра! — обратился Висленев к Ларисе, удерживая в своей руке руку Подозерова, — теперь всего ведь семь часов, не позволишь ли попросить тебя велеть приготовить что-нибудь часам к одиннадцати?
— Охотно, брат, охотно.
В это время они прошли весь сад и стояли у террасы.
— Право, — продолжал Висленев, — что-нибудь такое, что Бог послал, что напомнило бы святой обычай старины. Можно?
Лариса кивнула в знак согласия головою:
— Я очень рада.
— Так вот, Андрей Иваныч, — отнесся Висленев к Подозерову, — теперь часочек я приберусь, сделаю кое-как мой туалет, отправлюсь и привезу с собой моего приятеля, — он тут сирота, а к десяти часам позвольте вас просить прийти побеседовать, вспомнить старину и выпить рюмку вина за упокой прошлого и за многие лета грядущего.
— От таких приглашений, Иосаф Платонович, не отказываются, — отвечал Подозеров.
— Вашу руку! — и Висленев, взяв руку Подозерова, крепко сжал ее в своей руке и сказал: «До свидания».
Всем остальным гостям он поклонился общим поклоном и тоже от всех взял слово вечером прийти к Ларисе на ужин.
Гости ушли.
Висленев, взойдя с сестрою и теткою в дом, направился прямо в свой кабинет, где еще раз умылся и переоделся, прихлебывая наскоро поданный ему сюда чай, — и послал за извозчиком.
— Брат! — сказала ему Лариса, когда он вышел в зал и оправлялся перед большим зеркалом, — не дать ли знать Бодростиной, что ты приехал?
— Кому это? Глафире Васильевне?
— Да.
— Что ты это! Зачем?
— Да, может быть, и она захотела бы приехать?
— Бог с ней совсем!
— За что же это?
— Да так; на что она здесь?
— Она очень умная и приятная женщина.
— Ну, мне она вовсе не приятная, — пробурчал Висленев, обтягивая воротник рубашки.
— А неприятна, так и не надо, но только как бы она сама не заехала.
— Будет предосадно.
— И еще вот что, Жозеф: ты позвал вечером Синтянину?
— Кажется... да.
— Нет, наверное да. Так зайди же к ним, позови генерала Ивана Демьяныча.
Висленев оборотился к сестре и сморщился.
— Что такое? — проговорила Лариса.
— Так, знаешь, там доносом пахнет, — отвечал Висленев.
Лариса вспыхнула и нетерпеливо сказала:
— Полно, пожалуйста: мы об этом никогда не говорим и не знаем; а Александрина... такая прекрасная женщина...
— Но дело-то в том, что если вы чего не знаете, то я это знаю! — говорил, смеясь, Висленев. — Знаю, дружок, Ларушка, все знаю, даже и то, какая прекрасная женщина эта Александра Ивановна.
Лариса промолчала.
— Да, сестра, — говорил он, наклонив к Ларисе голову и приподняв на виске волосы, — здесь тоже в мои тридцать лет есть серебряные нити, и их выпряла эта прекрасная белая ручка этой прекрасной Александры Ивановны... Так уж предоставь мне лучше вас знать эту Александру Ивановну, — заключил он, ударяя себя пальцем в грудь, и затем еще раз сжал сестрину руку и уехал.
Лариса глядела ему вслед.
«Все тот же самый! — подумала она, — даже десять раз повторяет, что ему тридцать лет, когда ему уж тридцать пятый! Бедный, бедный человек!»
Она вздохнула и пошла распорядиться своим хозяйством и туалетом к встрече приезжего гостя.
Глава пятая. На все ноги кован.
Павел Николаевич Горданов, которого Висленев назвал «сиротою», не терпел никаких недостатков в своем временном помещении. Древняя худая слава губернских пристанищ для проезжающих теперь уже почти повсеместно напраслина. В большинстве сколько-нибудь заметных русских городов почти всегда можно найти не только чистый номер, но даже можно получить целый «ложемент», в котором вполне удобно задать обед на десять человек и вечерок на несколько карточных столов.
Такой ложемент из трех комнат с передней и ванной, и с особым ходом из особых сеней занял и Павел Николаевич Горданов. С него спросили за это десять рублей в сутки, — он не поторговался и взял помещение. Эта щедрость сразу дала Горданову вес и приобрела ему почтение хозяина и слуг.
Павел Николаевич на первых же порах объявил, что он будет жить здесь не менее двух месяцев, договорил себе у содержателя гостиницы особого слугу, самого представительного и расторопного изо всего гостиничного штата, лучший экипаж с кучером и парою лошадей, — одним словом, сразу стал не на обыкновенную ногу дюжинного проезжающего, а был редким и дорогим гостем. Его огромные юфтовые чемоданы, строченные цветным шелком и изукрашенные нейзильберными винтами и бляхами с именем Горданова; его гардероб, обширный как у актрисы, батистовое белье, громадные портфели и несессеры, над разбором которых отряженный ему слуга хлопотал целый час, проведенный Висленевым у сестры, все это увеличивало обаяние, произведенное приезжим.
Через час после своего приезда Павел Николаевич, освежившись в прохладной ванне, сидел в одном белье пред дорожным зеркалом в серебряной раме и чистил костяным копьецом ногти.
Горданов вообще человек не особенно представительный: он не высок ростом, плечист, но не толст, ему тридцать лет от роду и столько же и по виду; у него правильный, тонкий нос; высокий, замечательно хорошо развитый смелый лоб; черные глаза, большие, бархатные, совсем без блеска, очень смышленые и смелые. Уста у него свежие, очерченные тонко и обрамленные небольшими усами, сходящимися у углов губ с небольшою черною бородкой. Кисти ослепительно белых рук его малы и находятся в некоторой дисгармонии с крепкими и сильно развитыми мышцами верхней части. Говорит он голосом ровным и спокойным, хотя левая щека его слегка подергивается не только при противоречиях, но даже при малейшем обнаружении непонятливости со стороны того, к кому относится его речь.
— Человек! как вас зовут? — спросил он своего нового слугу после того, как выкупавшись и умывшись сел пред зеркалом.
— Ефим Федоров, ваше сиятельство, — отвечал ему лакей, униженно сгибаясь пред ним.
— Во-первых, я вас совсем не спрашиваю, Федоров вы или Степанов, а во-вторых, вы не смейте меня называть «вашим сиятельством». Слышите?
— Слушаю-с.
— Меня зовут Павел Николаевич.
— Слушаю-с, Павел Николаевич.
— Вы всех знаете здесь в городе?
— Как вам смею доложить... город большой.
— Вы знаете Бодростиных?
— Помилуйте-с, — отвечал, сконфузясь, лакей.
— Что это значит?
— Как же не знать-с: предводитель!
— Узнайте мне: Михаил Андреевич Бодростин здесь в городе или нет?
— Наверное вам смею доложить, что их здесь нет, — они вчера уехали в деревню-с.
— В Рыбецкое?
— Так точно-с.
— Вы это наверно знаете?
— У нас здесь на дворе почтовая станция: вчера они изволили уехать на почтовых.
— Все равно: узнайте мне, один он уехал или с женой?
— Супруга их, Глафира Васильевна, здесь-с. Они, не больше часу тому назад, изволили проехать здесь в коляске.
Горданов лениво встал, подошел к столу, на котором был расставлен щегольской письменный прибор, взял листок бумаги и написал: «Я здесь к твоим услугам: сообщи, когда и где могу тебя видеть».
Запечатав это письмо, он положил его под обложку красиво переплетенной маленькой книжечки, завернул ее в бумагу, снова запечатал и велел лакею отнести Бодростиной. Затем, когда слуга исчез, Горданов сел перед зеркалом, развернул свой бумажник, пересчитал деньги и, сморщив с неудовольствием лоб, долго сидел, водя в раздумьи длинною ручкой черепаховой гребенки по чистому, серебристому пробору своих волос.
В это время в дверь слегка постучали.
Горданов отбросил в сторону бумажник и, не поворачиваясь на стуле, крикнул:
— Войдите!
Ему видно было в зеркало, что вошел Висленев.
— Фу, фу, фу, — заговорил Иосаф Платонович, бросая на один стул пальто, на другой шляпу, на третий палку. — Ты уже совсем устроился?
— Как видишь, сижу на месте.
— В полном наряде и добром здоровье!
— Даже и в полном наряде, если белье, по-твоему, составляет для меня полный наряд, — отвечал Горданов.
— Нет, в самом деле, я думал, что ты не разобрался.
— Рассказывай лучше, что ты застал там у себя и что твоя сестра?
— Сестра еще похорошела.
— То была хороша, а теперь еще похорошела?
— Красавица, брат, просто волшебная красавица!
— Наше место свято! Ты меня до крайности интересуешь похвалами ее красоте.
— И не забудь, что ведь нимало не преувеличиваю.
— Ну, а твоя, или ci-devant 1 твоя генеральша... коварная твоя изменница?
— Ну, та уж вид вальяжный имеет, но тоже, черт ее возьми, хороша о сю пору.
— За что же ты ее черту-то предлагаешь? Расскажи же, как вы увиделись, оба были смущены и долго молчали, а потом...
— И тени ничего подобного не было.
— Ну ты непременно, чай, пред ней балет протанцевал, дескать: «ничтожество вам имя», а она тебе за это стречка по носу?
— Представь, что ведь в самом деле это было почти так.
— Ну, а она что же?
— Вообрази, что ни в одном глазу: шутит и смеется.
— В любви клянется и изменяет тут же шутя?
— Ну, этого я не сказал.
— Да этого и я не сказал; а это из Марты, что ли, — не помню. А ты за которой же намерен прежде приударить?
Висленев взглянул на приятеля недоумевающим взглядом и переспросил:
— То есть как за которою?
— То есть за которою из двух?
— Позволь, однако, любезный друг, тебе заметить, что ведь одна из этих двух, о которых ты говоришь, мне родная сестра!
— Тьфу, прости, пожалуйста, — отвечал Павел Николаевич: — ты меня с ума сводишь всеми твоими рассказами о красоте, и я, растерявшись, горожу вздор. Извини, пожалуйста: а уж эту последнюю глупость я ставлю на твой счет.
— Можешь ставить их на мой счет сколько угодно, а что касается до ухаживанья, то нет, брат, я ни за кем: я, братец, тон держал, да, серьезный тон. Там целое общество я застал: тетка, ее муж, чудак, антик, нигилист чистой расы...
— Скажи, пожалуйста! а здесь и они еще водятся?
Висленев посмотрел на него пристально и спросил:
— А отчего же им не быть здесь? Железные дороги... Да ты постой... ведь ты его должен знать.
— Откуда и почему я это должен?
— А помнишь, он с Бодростиным-то приезжал в Петербург, когда Бодростин женился на Глафире? Такой... бурбон немножко!
1 Прежняя (фр.).
— Нос с красниной?
— Да, на нутро немножко принимает.
— Ну помню: как бишь его фамилия?
— Форов.
— Да, Форов, Форов, — меня всегда удивляла этимология этой фамилии. Ну, а еще кто же там у твоей сестры?
— Один очень полезный нам человек.
— Нам? — удивился Горданов.
— Да; то есть тебе, самый влиятельный член по крестьянским делам, некто Подозеров. Этого, я думаю, ты уж совсем живо помнишь?
— Подозеров?.. я его помню? Откуда и как: расскажи, сделай милость.
— Господи! Что ты за притворщик!
— Во-первых, ты знаешь, я все и всех позабываю. Рассказывай: что, как, где и почему я знал его?
— Изволь: я только не хотел напоминать тебе неприятной истории: этот Подозеров, когда все мы были на четвертом курсе, был распорядителем в воскресной школе.
Горданов спокойно произнес вопросительным тоном:
— Да?
— Ну да, и... ты, конечно, помнишь все остальное?
— Ничего я не помню.
— История в Ефремовском трактире?
— И никакой такой истории не помню, — холодно отвечал Горданов, прибирая волосок к волоску в своей бороде.
— Так я тебе ее напомню.
— Сделай милость.
— Мы зашли туда все вчетвером: ты, я, Подозеров и Форов, прямо с бодростинской свадьбы, и ты хотел, чтобы был выпит тост за какое-то родимое пятно на плече или под плечом Глафиры Васильевны.
— Ты, друг любезный, просто лжешь на меня; я не дурак и не могу объявлять таких тостов.
— Да; ты не объявлял, но ты шепнул мне на ухо, а я сказал.
— Ах ты сказал... это иное дело! Ты ведь тоже тогда на нутро брал, тебе, верно, и послышалось, что я шептал. Ну, а что же дальше? Он, кажется, тебя побил, что ли?
— Ну, вот уж и побил! ничего подобного не было, но он заставил меня сознаться, что я не имею права поднимать такого тоста.
— Однако он, значит, мужчина молодец! Ну, ты, конечно, и сознался?
— Да; по твоему же настоянию и сознался: ты же уговорил меня, что надо беречь себя для дела, а не ссориться из-за женщин.
— Скажи, пожалуйста: как это я ничего этого не помню?
— Ну полно врать: помнишь! Прекрасно ты все помнишь! Еще по твоему же совету... ты же сказал, что ты понимаешь одну только такую дуэль, по которой противник будет наверняка убит. Что, не твои это слова?
— Ну, без допроса, — что же дальше?
— Пустили слух, что он доносчик.
— Ничего подобного не помню.
— Ты, Павел Николаич, лжешь! это все в мире знают.
— Ну да, да, Иосаф Платоныч, непременно «все в мире», вы меньшею мерой не меряете! Ну и валяй теперь, сыпь весь свой дикционер: «всякую штуку», «батеньку» и «голубушку»... Эх, любезный друг! сколько мне раз тебе повторять: отучайся ты от этого поганого нигилистического жаргона. Теперь настало время, что с порядочными людьми надо знаться.
— Ну, так просто: все знают.
— Ошибаешься, и далеко не все: вот здешний лакей, знающий здесь всякую тварь, ничего мне не доложил об этаком Подозерове, но вот в чем дело: ты там не того?..
— Что такое?
— Балет-то танцевал, а, надеюсь, не раскрывался бутоном?
— То есть в чем же, на какой предмет, и о чем я могу откровенничать?
Ты ведь черт знает зачем меня схватил и привез сюда; я и сам путем ничего иного не знаю, кроме того, что у тебя дело с крестьянами.
— И ты этого, надеюсь, не сказал?
— Нет, это-то, положим, я сказал, но сказал умно: я закинул только слово.
Горданов бросил на него бархатный взгляд, обдававший трауром, и внятно, отбивая каждое слово от слова, протянул:
— Ты это сказал? Ты, милый, умен как дьякон Семен, который книги продал, да карты купил. И ты претендуешь, что я с тобой не откровенен. Ты досадуешь на свою второстепенную роль. Играй, дружок, первую, если умеешь.
— Паша, я ведь не знаю, в чем дело?
— Дело в истине, изреченной в твоей детской прописи: «истинный способ быть богатым состоит в умерении наших желаний». Не желай ничего знать более того, что тебе надо делать в данную минуту.
— Позволь, голубушка, — отвечал Висленев, перекатывая в руках жемчужину булавки Горданова. — Я тебя очень долго слушал.
— И всегда на этом выигрывал.
— Кроме одного раза.
— Какого?
— Моей женитьбы.
— Что же такое? и тут, кажется, обмана не было: ты брал жену во имя принципа. Спас женщину от родительской власти.
— То-то, что все это вышло вздор: не от чего ее было спасать.
— Ну ведь я же не мог этого знать! Да и что ты от этого потерял, что походил вокруг аналоя? Гиль!
— Да, очень тебе благодарен! Я и сам когда-то так рассуждал, а теперь не рассуждаю и знаю, что это содержания требует.
— Ну вот видишь, зато у тебя есть один лишний опыт.
— Да, шути-ка ты «опыт». Запрягся бы ты сам в такой опыт!
— Ты очень добр ко мне. Я, брат, всегда сознавался, что я пред тобою нуль в таких делах, где нужно полное презрение к преданию: но ведь зато ты и был вождь, и пользовался и уважением и славой, тобой заслуженными, я тебе не завидовал.
— Ах, оставь, пожалуйста, Павел Николаевич, мне вовсе не весело.
Горданов оборотился к Висленеву, окинул его недовольным взглядом и спросил:
— Это еще что такое значит? Чем ты недовольна, злополучная тень, и чего еще жаждешь?
— Да что ж ты шутишь?
— Скажите, пожалуйста! А чего бы мне плакать?
— Не плачь, но и не злорадствуй. Что там за опыт я получил в моей женитьбе? Не новость, положим, что моя жена меня не любит, а любит другого, но... то, что...
— Ну, а что же новость?
— Что? — крикнул Висленев. — А то, что она любит черт знает кого, да и его не любит.
— А тебе какое дело?
— Она любит ростовщика, процентщика.
— А тебе, повторяю, какое до этого дело?
— Какое дело? такое, что это подлость... тем более, что она и его не любит!
— Так что же ты за него, что ли, обижаешься?
— За кого?
— За Тихона Ларионовича?
— О, черт бы его побрал! еще имя этого проклятого здесь нужно.
— Шут ты, — сказал мягко Горданов и, встав, начал одеваться. — Шут и более ничего! Какое тебе до всего этого дело?
— Ах, вот, покорно вас благодарю: новый министр юстиции явился и рассудил! Что мне за дело? А имя мое, и ведь все знают, а дети, черт их возьми, а дети... Они «Висленевы», а не жиды Кишенские.
— Скажите, какая важная фамилия: «Висленев»! Фу, черт возьми! Да им же лучше, что они не будут такие сумасшедшие, как ты! Ты бы еще радовался, что она не на твоей шее, а еще тебе же помогала.
Висленев не отвечал и досадливо кусал ногти. Горданов продолжал одеваться: в комнате минут пять продолжалось молчание.
— Ты ему сколько должен, Кишенскому-то?
Висленев промолчал.
— Да что же ты это на меня, значит, сердишься за то, что женился нехорошо, или за то, что много должен?
Висленев опять промолчал.
— Вот престранная, ей-Богу, порода людей! — заговорил, повязывая пред зеркалом галстук, Горданов, — что только по ихнему желанию ни случится, всем они сами же первые сейчас недовольны. Захотел Иосаф Платонович быть вождем политической партии, — был, и не доволен: подчиненные не слушаются; захотел показать, что для него брак гиль, — и женился для других, то есть для жены, и об этом теперь скорбит, брезговал собственностью, коммуны заводил, а теперь душа не сносит, что карман тощ; взаймы ему человек тысчонок десяток дал, теперь, зачем он дал? поблагородничал, сестре свою часть подарил, и об этом нынче во всю грудь провздыхал; зачем не на общее дело отдал, зачем не бедным роздал? зачем не себе взял?
— Ну извини, пожалуйста: последнего я никогда не говорил.
— Ну полно, брат Жозеф, я ведь давно читаю тебя насквозь. А ты скажи, что это у вас, родовое, что ли? И сестра твоя такая?
— Оставь мою сестру; а читать меня немудрено, потому что в таких каторжных сплетениях, в каких я, конечно, пожалеешь о всяком гроше, который когда-нибудь употреблял легкомысленно.
— Ну вот то-то и есть!
— Да, но все-таки, я, конечно, уж, если за что на себя не сетую, так это за то, что исполнил кое-как свой долг по отношению к сестре. Да и нечего о том разговаривать, что уже сделано и не может быть переделано.
— Отчего же не может быть переделано? дар дарится и возвращается.
— Какой вздор!
— Не смей, Иосафушка, закона называть вздором.
— И неужто ты думаешь, что я когда-нибудь прибегнул бы к такому средству?
— Ни за что не думаю.
— Очень тебе благодарен хоть за это. Я нимало не сожалею о том, что я отдал сестре, но только я охотно сбежал бы со света от всех моих дел.
— Да куда, странничек, бежать-то? Это очень замысловатая штучка! в поле холодно, в лесу голодно. Нет, милое дитя мое Иосаф Платоныч, не надо от людей отбиваться, а надо к людям прибиваться. Денежка, мой друг, труд любит, а мы с тобой себе-то хотя давай не будем лгать: мы, когда надо было учиться, свистели; когда пора была грош на маленьком месте иметь, сами разными силами начальствовали; а вот лето-то все пропевши к осени-то и жутко становится.
— Ах, жутко, Поль, жутко!
— То-то и есть, но нечего же и головы вешать. С азбуки нам уже начинать поздно, служба только на кусок хлеба дает, а люди на наших глазах миллионы составляют; и дураков, надо уповать, еще и на наш век хватит. Бабы-то наши вон раньше нас за ум взялись, и посмотри-ко ты, например, теперь на Бодростину... Та ли это Бодростина, что была Глаша Акатова, которая, в дни нашей глупости, с нами ради принципа питалась снятым молоком? Нет! это не та!
— И как она в свою роль вошла! говорят, совсем природная дюшесса, герцогиня.
— Да и удивляться нечего; а почему? А потому что есть царь в голове. Чего ей не быть дюшессой? Она всем сумела бы быть. Вот это-то и надо иметь в уме таким людям, как мы с тобой, которые ворчали, что делать состояние будто бы «противно природе». Кто идет в лес по малину спустя время, тому одно средство: встретил кого с кузовом и отсыпь себе в кузовок.
— А что если бы твои эти слова слышал бы кто-нибудь посторонний? — спросил, щуря глаза и раскачивая ногою, Висленев.
— Что же: сказал бы, что я подлец?
— Наверно.
— И наверно соврал бы; потому что сам точно так же, подлец, думает. Ты хочешь быть добр и честен?
— Конечно.
— Так будь же прежде богат, чтобы было из чего добрить и щедрить, а для этого... пересыпай, любезный, в свой кузов из кузова тех, от кого, как от козла, ни шерсти, ни молока. А что скажут?.. Мы с тобой, почтенный коллега, сбившись с толку в столицах, приехали сюда дела свои пристраивать, а не нервничать, и ты, пожалуйста, здесь все свои замашки брось и не хандри, и тоже не поучай, понимаешь... соглашайся. Время, когда из Петербурга можно было наезжать в провинции с тем, чтобы здесь пропагандировать да развивать свои теории, прошло безвозвратно. Вы, господа «передовые», трунили, что в России железных дорог мало, а железные дороги вам первая помеха; они наделали, что Питер совсем перестает быть оракулом, и теперь, приехав сюда из Петербурга, надо устремлять силы не на то, чтобы кого-нибудь развивать, а на то, чтобы кого-нибудь... обирать. Это одно еще пока ново и не заезжено.
Висленев молчал.
— Но только вот что худо, — продолжал Горданов, — когда вы там в Петербурге считали себя разных дел мастерами и посылали сюда разных своих подмастерьев, вы сами позабывали провинцию, а она ведь иной раз похитрей Петербурга, и ты этого, пожалуйста, не забывай. В Петербурге можно, целый век ничего умного не сделавши, слыть за умника, а здесь... здесь тебя всего разберут, кожу на тебе на живом выворотят и не поймут...
— Да я это сто раз проводил в моих статьях, но ты, с твоим высоким о себе мнением, разумеется, ничего этого не читал.
— Напротив, я «читал и духом возмутился, зачем читать учился». Ты все развиваешь там, что в провинции тебя не поймут. Да, любезный друг, пожалуй что и не поймут, но не забудь, что зато непременно разъяснят. Провинция — волшебница Всеведа: она до всего доберется. И вы вот этого-то именно и не чаете, и оттого в Петербурге свистите, а здесь как раз и заревете. Советую тебе прежде всего не объявляться ни под какою кличкой, тем более, что, во-первых, всякая кличка гиль, звук пустой, а потом, по правде тебе сказать, ты вовсе и не нигилист, а весьма порядочный гилист. Гиль заставила тебя фордыбачить и отказываться от пособия, которое тебе Тихон Ларионыч предлагал для ссудной кассы, гиль заставила тебя метаться и искать судебных мест, к которым ты неспособен; гиль загнала тебя в литературу, которая вся яйца выеденного не стоит, если бы не имела одной цели — убить литературу; гиль руководит тобой, когда ты всем и каждому отрицаешься от нигилизма; одним словом, что ты ни ступишь, то это все гиль. Держись, пожалуйста, умней, мой благородный вождь, иначе ты будешь свешен и смерян здесь в одну неделю, и тебя даже подлецом не назовут, а просто нарядят в шуты и будут вышучивать! а тогда уж и я не стану тебя утешать, а скажу тебе: выпроси, друг Иосаф Платоныч, у кого-нибудь сахарную веревочку и подвесся минут на десять.
— Ты, однако, очень своеобразно утешаешь.
— Да, именно очень своеобразно; я не развожу вам разводов о «силе и материи», а ищу действующей силы, которая бы нашу голову на плечи поставила.
Висленев в отчаянии всплеснул руками.
— Да где же эта сила, Поль? — воскликнул он почти со слезами на глазах.
— Вот здесь, в моем лбу и в твоем послушании и скромности. Я тебе это сказал в Москве, когда уговорил сюда ехать, и опять тебе здесь повторяю то же самое. Верь мне; вера не гиль, она горы двигает; верь в меня, как я в тебя верю, и ты будешь обладать и достатком, и счастием.
— Полно, пожалуйста, где ты там в меня веришь?
— А уж я другому наверно бы не отдал портфеля с полусотней тысяч денежных бумаг.
— А я кстати не знаю, зачем ты их мне отдал? Возьми их Бога ради!
— Нельзя, мой милый; я живу в гостинице.
— Да все равно, конечно: ключ ведь у тебя?
В это время в комнату явился слуга, посланный Гордановым с книгою к Бодростиным, и вручил ему маленькую записочку, на которую тот только взглянул и тотчас же разорвал ее в мельчайшие лепесточки. Долго, впрочем, в ней нечего было и читать, потому что на маленьком листке была всего одна коротенькая строчка, написанная мелким женским почерком. Строчка эта гласила: «12 chez vous» 1.
Горданова на минуту только смутила цифра 12. К какой поре суток она относилась? Впрочем, он сейчас же решил, что она не может относиться к полудню; некстати также, чтоб это касалось какой-нибудь и другой полуночи, а не той, которая наступит вслед за нынешним вечером.
«Она всегда толкова, и дело здесь, очевидно, идет о сегодня», — сказал он себе и, положив такое решение, вздохнул из глубины души и, обратясь к сидевшему в молчании Висленеву, добавил: — так-то, так-то, брат Савушка; все у нас с тобой впереди и деньги прежде всего.
— Ах, деньги важная вещь!
— Еще бы! Деньги, дитя мое, большой эффект в жизни. И вот раз, что они у нас с тобой явятся в изобилии, исцелятся даже и все твои язвы сердечные. Прежде же всего надобно заботиться о том, чтобы поправить грех юности моей с мужичонками. Для этого я попрошу тебя съездить в деревню с моею доверенностью.
— Хорошо; я поеду.
— Я дам тебе план и инструкции, как действовать, а самому мне нужно будет тем временем остаться здесь. А еще прежде того, есть у тебя деньги или нет?
— Откуда же они, голубчик Павел? Из ста рублей...
— Да полно вычислять!
Горданов развернул свой портфель, вынул из него двести рублей и подал Висленеву.
— Мне, право, совестно, Поль... — заговорил Висленев, протягивая руку к деньгам.
— Какой же ты после этого нигилист, если тебе совестно деньги брать? Бери, пожалуйста, не совестись. Недалеко время, когда у тебя будут средства, которыми ты разочтешься со мною за все сразу.
— Ах, только будут ли они? будут ли когда-нибудь? — повторял Висленев, опуская деньги в карман.
— Будут; все будет: будут деньги, будет положение в свете; другой жены новой только уж не могу тебе обещать; но кто же в наш век из порядочных людей живет с женами? А зато, — добавил он, схватывая Висленева за руку, — зато любовь, любовь... В провинциях из лоскутков шьют очень теплые одеяла... а ты, каналья, ведь охотник кутаться!
— Пусти, пожалуйста, с твоею любовью! — проговорил, невольно осклабляясь, Висленев.
— Нет, а ты не шути! — настойчиво сказал Горданов и, наклонясь к уху собеседника, прошептал: — я знаю, кто о тебе думает, и не самовольно обещаю тебе любовь такой женщины, пред которою у всякого зарябит в глазах. Это вот какая женщина, пред которою и сестра твоя, и твоя генеральша — померкнут как светляки при свете солнца, и которая... сумеет полюбить так... как сорок тысяч жен любить не могут! — заключил он, быстро кинув руку Висленева.
— Ты это от себя фантазируешь?
— Да разве такие вещи можно говорить, не имея на то полномочия?
— Так что ж она меня знает, что ли?
— Конечно, знает.
Висленев подернул в недоумении плечами, а Горданов заглянул ему в глаза и, улыбаясь, проговорил:
— А! глаза забегали!
Висленев рассмеялся.
— Да что же, — отвечал он, — нельзя же все в самом деле серьезно слушать, как ты интригуешь, точно в маскараде.
1 У вас (фр.).
— Нечего тебе толковать, маскарад это или не маскарад: довольно с тебя, что я сдержу все мои слова, а ты будешь и богат, и счастлив, а теперь я вот уж и одет, и если ты хочешь меня куда-нибудь везти, то можешь мною располагать.
— Да, я пригласил к себе приятелей сестры поужинать и сам приехал за тобой.
— Прекрасно сделал, что пригласил их, и я очень рад познакомиться с приятелями твоей сестры, но только два условия: сейчас мне дома нужно написать маленькую цедулочку, и потом не сердись, что я долее половины двенадцатого ни за что у вас не останусь.
— А мне бы, знаешь... кажется, надо бы забежать...
— Куда?
— Да к этому генералу Синтянину, — заговорил, морщась, Висленев. — Сестра уверяет, что, по их обычаям, будто без того и генеральше неловко будет прийти.
— Ну, разумеется! А ты не хочешь, что ли, идти к нему?
— Конечно, не хотелось бы.
— Почему?
Висленев сделал заученную гримасу и проговорил:
— Все, знаешь, лучше как подалее от синего мундира.
— Ах ты, кум! — Горданов пожал плечами и комически проговорил: — Вот что общество так губит: предрассудкам нет конца! Нет, лучше поближе, а не подальше! Иди сейчас к генералу, сию же минуту иди, и до моего приезда умей снискать его любовь и расположение. Льсти, лги, кури ему, — словом, делай что знаешь, это все нужно, — добавил он, пихнув тихонько Висленева рукой к двери.
— Ну так постой же, знаешь еще что? Сестра хотела позвать Бодростину.
— Ну, это вздор!
— Я ей так и сказал.
— Да Глафира и сама не поедет. Ах, женщина какая, Иосаф?
— Кусай, любезный, локти! — проговорил, уходя, Иосаф Платонович.
Висленев ушел, а Горданов запер за ним двери на ключ, достал из дорожной шкатулки два револьвера, осмотрел их заряды, обтер замшей курки и положил один пистолет на комод возле изголовья кровати, другой — в ящик письменного стола. Затем он взял листок бумаги и написал большое письмо в Петербург, а потом на другом клочке бумаги начертил:
«Я непременно должен был отлучиться из дому, но к урочному часу буду назад, и если минуту запоздаю, то ты подожди».
Окончив это последнее писание, Горданов позвонил лакея и велел ему, если бы кто пришел от Бодростиных, отдать посланному запечатанную записку, а сам сел в экипаж и поехал к Висленевым.
На дворе уже совсем смерклось и тучилось; был девятый час вечера, в небе далеко реяли зарницы и пахло дождем. Глава шестая. Волк в овечьей коже.
Когда экипаж Горданова остановился у ворот висленевского дома, Иосаф Платонович, исполняя завет Павла Николаевича, был у генерала.
Ворота двора были отворены, и Горданову с улицы были видны освещенные окна флигеля Ларисы, раскрытые и завешенные ажурными занавесками. Горданов, по рассказам Висленева, знал, что ему нужно идти не в большой дом, но все-таки затруднялся: сюда ли, в этот ли флигель ему надлежало идти? Он не велел экипажу въезжать внутрь двора, сошел у ворот и пошел пешком. Ни у ворот, ни на дворе не было никого. Из флигеля слышались голоса и на занавесках мелькали тени, но отнестись с вопросом было не к кому.
Горданов остановился и оглянулся вокруг. В это время на ступенях крыльца дома, занимаемого генералом, показалась высокая женская фигура в светлом платье, без шляпы и без всякого выходного убора. Это была генеральша Александра Ивановна. Она тоже заметила Горданова с первой минуты и даже отгадала, что это он, отгадала она и его затруднение, но, не показав ему этого, дернула спокойной рукой за тонкую веревку, которая шла куда-то за угол и где-то терялась. Послышался мерный звон колокольчика и громкий отклик: сейчас!
— Семен, иди подай скорее барину одеваться! — отвечала на этот отклик Синтянина и стала сходить по ступеням, направляясь к флигелю Висленевых.
Горданов тронулся ей навстречу, и только что хотел сделать ей вопрос об указании ему пути, как она сама предупредила его и, остановясь, спросила:
— Вы, верно, не знаете, как вам пройти к Висленевым?
— Да, — отвечал, кланяясь, Горданов.
— Вы господин Горданов?
— Вы не ошиблись, это мое имя.
— Не угодно ли вам идти за мной, я иду туда же.
Они перешли дворик, взошли на крылечко, и Синтянина позвонила. Дверь не отворялась.
Александра Ивановна позвонила еще раз, громче и нетерпеливее, задвижка отодвинулась, и в растворенной двери предстала легкая фигура Ларисы.
— Как у тебя, Лара, никто не слышит, — проговорила Синтянина и сейчас же добавила: — вот к вам гость.
Лариса, смущенная появлением незнакомого человека, подвинулась назад, и, войдя в зал, спросила шепотом:
— Кто это?
— Горданов, — отвечала ей тихо генеральша и кивнула головой Подозерову по направлению к передней, где Горданов снимал с себя пальто.
Подозеров встал и быстро подошел к двери как раз в то время, как Горданов готовился войти в залу.
Оба они вежливо поклонились, и Горданов назвал себя по фамилии.
— Я здесь сам гость, — отвечал ему Подозеров и тотчас же, указав ему рукой на Ларису, которая стояла с теткой у балконной двери, добавил: — вот хозяйка.
— Лариса Платоновна, — заключил он, — вам желает представиться товарищ Иосафа Платоновича, господин Горданов.
Лариса сделала шаг вперед и проговорила казенное:
— Я очень рада видеть друзей моего брата.
Павел Николаевич, со скромностию истинного джентльмена, отвечал тонкою любезностью Ларисе, и, поручая себя ее снисходительному вниманию, отдал общий поклон всем присутствующим.
Лариса назвала по именам тетку и прочих.
Горданов еще раз поклонился дамам, пожал руки мужчинам и затем, обратясь к хозяйке, сказал:
— Ваш брат беспрестанно огорчает меня своею неаккуратностию и нынче снова поставил меня в затруднение. По его милости я являюсь к вам, не имея чести быть вам никем представленным, и должен сам рекомендовать себя.
— Брат здесь у нашего жильца и будет сюда сию минуту.
И действительно, в эту же минуту в передней, которая оставалась незапертою, послышались шаги и легкий брязг шпор: это вошли Висленев и генерал Синтянин.
Иосаф Платонович, как только появился с генералом, тотчас же познакомил его с Гордановым и затем завел полушуточный рассказ о Форове.
Все это время Синтянина зорко наблюдала гостя, но не заметила, чтобы Лариса произвела на него впечатление. Это казалось несколько удивительным, потому что Лариса, прекрасная при дневном свете, теперь при огне матовой лампы была очаровательна: большие черные глаза ее горели от непривычного и противного ее гордой натуре стеснения присутствием незнакомого человека, тонкие дуги ее бровей ломались и сдвигались, а строжайшие линии ее стана блестели серебром на изломах покрывавшего ее белого альпага.
По неловкости Висленева, мужчины задержались на некоторое время на средине комнаты и разговаривали между собою. Синтянина решила положить этому конец. Ее интересовал Горданов и ей хотелось с ним говорить, выведать его и понять его.
— Господа! — воскликнула она, направляя свое слово как будто исключительно к Форову и к своему мужу, — что же вы нас оставили? Позвольте заметить, что нам это нимало не нравится.
Мужчины повернулись и, сопровождаемые Иосафом Платоновичем, уселись к столу. Завязался общий разговор. Речь зашла о провинции и впечатлениях провинциальной жизни. Горданов говорил сдержанно и осторожно.
— Не находите ли вы, что провинция нынче еще более болтлива, чем встарь? — спросила Синтянина.
— Я еще не успел вглядеться в нынешних провинциальных людей, — отвечал Горданов.
— Да, но вы, конечно, знаете, что встарь с новым человеком заговаривали о погоде, а нынче начинают речь с направлений. Это прием новый, хотя, может быть, и не самый лучший: это ведет к риску сразу потерять всякий интерес для новых знакомых.
— Самое лучшее, конечно, это вести речь так, как вы изволите вести, то есть заставлять высказываться других, ничем не выдавая себя, — ответил ей с улыбкой Горданов.
Александра Ивановна слегка покраснела и продолжала:
— О, я совсем не обладаю такими дипломатическими способностями, какие вы во мне заподозрили, я только любопытна как женщина старинного режима и люблю поверять свои догадки соображениями других. Есть пословица, что человека не узнаешь, пока с ним не съешь три пуда соли, но мне кажется, что это вздор. Так называемые нынче «вопросы» очень удобны для того, чтобы при содействии узнавать человека, даже ни разу не посоливши с ним хлеба.
Горданов усмехнулся.
— Вы, кажется, другого мнения? — спросила Синтянина.
— Нет, совсем напротив! — отвечал он, — мое молчание есть только знак согласия и удивления пред вашею наблюдательностию.
— Вы, однако, тоже, как и Иосаф Платоныч, не пренебрегаете старинным обычаем немножко льстить женской суетности, но я недруг любезностей, расточаемых женскому уму.
— Не женскому, а вашему, хотя я вообще немалый чтитель женского ума.
— Не знаю, какой вы его чтитель, но, по-моему, все нынешнее курение женскому уму вообще — это опять не что иное, как вековечная лесть той же самой женской суетности, только положенная на новые ноты.
— Я с вами совершенно согласен, — отвечал ей тоном большой искренности Горданов.
— Мой приятель поп Евангел того убеждения, что всякий человек есть толькой ветхий Адам, — вставил Форов.
— И ваш отец Евангел совершенно прав, — опять согласился Горданов. — Если возьмем этот вопрос серьезно и обратимся к истории, к летописям преступлений или к биографиям великих людей и друзей человечества, везде и повсюду увидим одно бесконечное ползанье и круженье по зодиакальному кругу: все те же овны, тельцы, раки, львы, девы, скорпионы, козероги, и рыбы, с маленькими отменами на всякий случай, и только. Ново лишь то, что хорошо забыто.
— Сдаюсь на ваши доводы; вы правы, — согласился Форов.
— Теперь, например, — продолжал Горданов, — разве не ощутительны новые тяготения к старому: Татьяна Пушкина опять скоро будет нашим идеалом; самые светские матери не стыдятся знать о здоровье и воспитании своих детей; недавно отвергнутый брак снова получает важность. Восторги по поводу женского труда остыли...
— Нет-с, извините меня, — возразил Филетер Иванович, — вы, я вижу, стародум, стоите за старь, за то, что древле было все лучше и дешевле.
— Нимало: я совсем вне времени, но я во всяком времени признаю свое хорошее и свое худое.
— Так за что же вы против женского труда?
— Боже меня сохрани! Я не настолько самоотвержен, чтобы, будучи мужчиной, говорить во вред себе.
— Я вас не понимаю, — отозвался генерал.
— Я стою за самую широкую эмансипацию женщин в отношении труда; я даже думаю, что со стороны мужчин будет очень благоразумно свалить всю работу женщинам, но я, конечно, не позволю себе называть это эмансипацией и не могу согласиться, что эта штука впервые выкинута с женщинами так называемыми новыми людьми. Привилегия эта принадлежит не им.
— Она принадлежит нашим русским мужичкам в промысловых губерниях, — вставил Форов.
— Да; чтобы не восходить далее и не искать указаний в странах совершенных дикарей, привилегию эту, конечно, можно отдать тем из русских мужиков, для которых семья не дорога. Мужик Орловской и Курской губернии, пахарь, не гоняет свою бабу ни пахать, ни боронить, ни косить, а исполняет эту тягчайшую работу сам; промысловый же мужик, который, конечно, хитрее хлебопашца, сам пьет чай в городском трактире, а жену обучил править за него мужичью работу на поле. Я отдаю справедливость, что все это очень ловко со стороны господ мужчин, но совещусь сказать, что все это сделано для женской пользы по великодушию.
— Вы, кажется-с, играете словами, — промолвил генерал, заметив общее внимание женщин к словам Горданова; но тот это решительно отверг.
— Я делаю самые простые выводы из самых простейших фактов, — сказал он, — и притом из общеизвестных фактов, которые ясно убеждают, что с женщиной поступают коварно и что значение ее все падает. Как самое совершеннейшее из творений, она призвана к господству над грубою силой мужчины, а ее смещают вниз с принадлежащего ей положения.
— Позвольте-с, с этим трудно согласиться!
— С этим, генерал, нельзя не согласиться!
— А я не соглашусь-с!
— Непременно согласитесь. Разве не упало, не измельчало значение любви, преданности женщинам? Разве любовь не заменяется холодным сватовством, не становится куплею... Согласитесь, что женитьба стала бременем, что распространяется ухаживанье за чужими женами, волокитничество, интрига без всяких обязательств со стороны мужчины. Даже обязанности волокитства кажутся уж тяжки, — женщина не стоит труда, и начинаются rendez-vous нового сорта; не мелодраматические rendez-vous с замирающим сердцем на балконе «с гитарою и шпагой», а спокойное свидание у себя пред камином, в архалуке и туфлях, с заученною лекцией сомнительных достоинств о принципе свободы... Речь о свободе с тою, которая сама властна одушевить на всякую борьбу... Простите меня, но, мне кажется, нет нужды более доказывать, что значение женщины в так называемый «наш век» едва ли возвеличено тем, что ей, разжалованной царице, позволили быть работницей! Есть женщины, которые уже теперь недоверчиво относятся к такой эмансипации.
— Да, это правда, — вставила свое слово Лариса.
Горданов взглянул на нее и, встретив ее взгляд, закончил:
— Как вам угодно, для живой женщины наедаться за труд не было, не есть ныне и никогда не будет задачею существования, и потому и в этом вопросе, — если это вопрос, — круг обойден, и просится нечто новое, это уже чувствуется.
— Однако же-с, закон этого-с еще как будто не предусматривает, того, что вы изволите говорить, — прозвучал генерал.
— Закон!.. Вы правы, ваше превосходительство, закон не предусматривает, но и в Англии не отменен закон, дозволяющий мужу продать неверную жену, а у нас зато есть учреждения, которые всегда доставляли защиту женщине, не стесняясь законом.
— Ага-с! ага! поняли наконец-то: и известные учреждения! Вот видите, когда поняли! — воскликнул генерал.
— Да этого нельзя и не понимать!
— Ага! ага! «нельзя не понимать»! Нет-с, не понимали. Закон! закон! твердили: все закон! А закон-то-с хорош-с тем, кто вырос на законе, как европейцы, а калмыцкую лошадь один калмык переупрямит.
Лариса бросила взгляд на Горданова и, видя, что он молчит, встала и попросила гостей к столу.
Ужин шел недолго, хотя состоял из нескольких блюд и начался супом с потрохами. Разговор десять раз завязывался, но не клеился, а Горданов упорно молчал: с его стороны был чистый расчет оставлять всех под впечатлением его недавних речей. Он оставался героем вечера.
За столом говорил только Висленев, и говорил с одним генералом о делах, о правительстве, о министрах. Вмешиваться в этот разговор охотников не было. Висленев попробовал было подтрунить над материализмом дяди, но тот отмолчался, тронул он было теткину религиозность, посмеявшись, что она не ест раков, боясь греха, но Катерина Астафьевна спокойно ответила:
— Не потому, батюшка, не ем, чтобы считала это грехом, а потому, что не столько на этих раках мяса наешь, сколько зубов растеряешь.
Так ужин и кончился.
Встав из-за стола, Горданов тотчас же простился и зашел на минуту в кабинет Висленева только для того, чтобы раскурить сигару, но, заметив старинные эстампы, приостановился перед Фамарью и Иудою.
— Как это хорошо исполнено, — сказал он.
— Нет, это ничего, а ты вот взгляни-ка на этих коней, — позвал его к другой картине Висленев.
Горданов оглянулся.
— Недурны, — сказал он сквозь зубы, мельком взглянув на картинку.
— А которая тебе более нравится?
— Одна другой лучше.
— Ну, этого не бывает.
— Почему нет? твоя сестра и генеральша разве не обе одинаково прекрасны? Здесь больше силы, — она дольше проскачет, — сказал он, показывая головкою тросточки на взнузданного бурого коня, — а здесь из очей пламя бьет, из ноздрей дым валит. Прощай, — добавил он, зевнув. — Да вот еще что. Генерал-то Синтянин, я слышал, говорил тебе за ужином, что он едет для каких-то внушений в стороне, где мое имение, — вот тебе хорошо бы с ним примазаться! Обдумай-ко это!
— А что ж, я, если хочешь, это улажу, но ловко ли только с ним-то?
— И прекрасно сделаешь: с ним-то и ловко! а того... что бишь такое я еще хотел тебе сказать?.. Да, вспомнил! Приходи ко мне завтра часу в одиннадцатом; съездим вместе к этому Подозерову.
— Хорошо.
— А что, твоя сестра за него уже просватана или нет?
— Что тако-ое? моя сестра просватана!.. На чем ты это основываешь?
— На гусиной печенке, которую она ловила для него в суповой чаше. Это значит, она знает его вкусы и собирается угождать им.
— Какой вздор! сестра, кажется, такой субъект, что она может положить ему на тарелку печенку, а тебе сердце.
Горданов засмеялся.
— Чего ты смеешься?
— Не знаю, право, но мне почему-то всегда смешно, когда ты расхваливаешь твою сестру. А что касается до твоей генеральши, то скажу тебе, что она прелесть и баба мозговитая.
— А вот видишь ли, а ведь ты ошибаешься, она совсем не так умна, как тебе кажется. Она только бойка.
— Ну да; рассказывай ты! Нет, а ты рта-то с ней не разевай! Прощай, я совсем сплю.
Приятели пожали друг другу руки, и Висленев проводил Горданова до коляски, из которой тот сунул Иосафу Платоновичу два пальца и уехал.
На дворе было уже без четверти полночь. Горданов нетерпеливо понукал кучера, и наконец, увидав в окнах своего номера чуть заметный подслеповатый свет, выскочил из коляски, прежде чем она остановилась.
Глава седьмая. Не поняли, но объясняют.
Проводив Горданова, Висленев возвратился назад в дом, насвистывая оперетку, и застал здесь уже все общество наготове разойтись: Подозеров, генерал и Филетер Иванович держали в руках фуражки, Александра Ивановна прощалась с Ларисой, а Катерина Астафьевна повязывалась пред зеркалом башлыком.
Иосаф Платонович хотел показать, что его эти сборы удивили.
— Господа! — воскликнул он, — куда же вы это?
— Домой-с, домой, — отвечал, протягивая ему руку, генерал.
— Что же это так рано и притом все вдруг?
— Вам спать пора, — отвечала ему, подавая на прощанье руку, генеральша Синтянина.
— И даже вы, тетушка, тоже уходите? — обратился он к Форовой, окончившей в эту минуту свой туалет.
— Муж меня, батюшка, берет, замуж вышла, не свой человек.
— Лара, уговори хоть ты, — обратился он к сестре.
— Alexandrine, погоди, — проговорила Лара.
— Мой друг... ты знаешь, у меня дома есть больная.
Александра Ивановна нагнулась к уху Ларисы и прошептала:
— Я и так поступаю нехорошо: Вера весь день очень беспокойна.
— Я больше не прошу, — ответила ей громко Лариса.
— Ну, делать нечего, прощайте, господа, — повторил Висленев, — но я во всяком случае надеюсь, что мы будем часто видеться. А как вам, Филетер Иванович, показался мой приятель Горданов? Не правда ли, умница?
— Да вы что же сами подсказываете? — возразил Форов.
— Я не подсказываю, я только так...
— Ну, уж теперь нечего «так»! прощайте.
— Нет, а ведь вправду умен? — допрашивал Висленев, удерживая за руку майора.
— Ну вот, не видала Москва таракана: экая редкость, что умен!
— И резонен, на ветер не болтает.
— Это еще того дешевле. Нам его резоны все равно, что морю дождик, мы резоны-то и без него с прописей списывали, а вот он настоящую свою суть покажи!
— Пока вы его провожали, мы на его счет по нашей провинциальной привычке уже немножко посплетничали, — сказала почти на пороге генеральша. — Знаете, ваш друг, — если только он друг ваш, — привел нас всех к соглашению, между тем как все мы чувствуем, что с ним мы вовсе не согласны.
Висленев засмеялся и сказал:
— Я это ему передам.
У своего крыльца Синтянина на минуту остановилась с Подозеровым и, удержав в своей руке руку, которую последний подал ей на прощанье, спросила его:
— Ну, а вам, Андрей Иванович, понравился этот барин?
— Не очень понравился, Александра Ивановна, — коротко отвечал Подозеров.
— Это значит, что он вам совсем не понравился. Я это, впрочем, видела и очень сожалела, что вы сегодня так убийственно скучны и молчаливы. Вы один могли бы ему отвечать, и вы-то и не сказали ни слова.
— К чему? — ответил Подозеров. — Он говорит красно. Да; они совсем довоспиталися: теперь уже не так легко открыть, кто под каким флагом везет какую контрабанду.
— Зачем же вы молчали? И вообще, что значит: целый день унылость, а к ночи сплин?
— Не знаю, скучно и сердце болит.
— А вы бы вот поучились у Горданова владеть собою! Удивительное самообладание!
— Ничего удивительного! Самообладанием отличается шулер, когда смотрит всем в глаза, чтобы не заметили, как он передергивает карту.
— Во всяком случае, господин Горданов мастерски владеет собою.
— И другими даже, — подтвердила Форова, целуя в лоб Синтянину. — Это, господа, не человек, а... кто его знает, кто он такой: его в ступе толки, он будет вокруг толкача бегать.
— А ваше мнение, Филетер Иванович, о новом госте какое?
— Пока не вложу перста моего — ничего не знаю.
— Вы неисправимы, — промолвила генеральша и добавила: — Я рада бы с вами много говорить, да Вера нездорова; но одно вам скажу: по-моему, этот Горданов точно рефлектор, он все отражал и все соединял в фокусе, но что же он нам сказал?
— А ничего! — ответил Форов. — С пытливых дам и этого довольно.
— Ну, прощайте, — произнесла генеральша и, кивнув всем головою, пошла на крыльцо.
Форов втроем с женою и Подозеровым вышли за калитку и пошли по пустынной улице озаренного луной и спящего города.
Иосаф Платонович, выпроводив гостей, счел было нужным поговорить с сестрой по сердцу и усадил ее в гостиной на диване, но, перекинувшись двумя-тремя фразами, почувствовал нежелание говорить и ударил отбой.
— Ну и слава Богу, что у тебя все хорошо, — сказал он. — Ты сколько же берешь нынче в год за дом с Синтяниных?
— Столько же, как и прежде, Жозеф.
— То есть, что же именно? Я ведь уже все это позабыл, сколько за все платилось.
— Они мне платят шестьсот рублей.
— Фуй, фуй, как дешево! Квартиры повсеместно ужасно вздорожали.
— Да? я, право, этого не знаю, Жозеф.
— Как же, Ларушка. По крайней мере у нас в Петербурге все стало черт знает как дорого. Ты напрасно не обратишь на это внимания.
— Но что же мне до этого?
— Как что тебе до этого, моя милая? Их превосходительства могли бы тебе теперь и подороже...
— Ах, полно, Бога ради, цена, которую они платят, мне ровесница. Синтянин, с тех пор как выехали Гриневичи, платит за этот дом шестьсот рублей, не я же стану набавлять на них... С какой стати?
— Как с какой стати? Все дорожает, а деньги дешевеют. Матушка наша, я помню, платила кухарке два рубля серебром в месяц, а мы теперь сколько платим?
— Пять.
— Ну вот, здравствуй, пожалуйста! Платишь за все втрое, а берешь то же самое, что и сто лет тому назад брала. Это невозможно. Я даже удивляюсь, как им самим это не совестно жить на старую цену, и если они этого не понимают, то я дам им это почувствовать.
— Нет, я прошу тебя, Жозеф, этого не делать! Во-первых, Синтянины небогаты, а во-вторых, у нас квартиры втрое и не вздорожали, в-третьих же, я дорожу Синтяниными, как хорошими постояльцами, и дружна с Alexandrine.
— Да; «дружба это ты!» когда нам это выгодно, — перебил, махнув рукой, Висленев.
— А в-четвертых... — проговорила и замялась на слове Лариса.
— В-четвертых, это не мое дело. Я с тобой согласен, часть свою я тебе уступил, и дом вполне твоя собственность, но ведь тебе же надо на что-нибудь и жить.
— Я и живу.
— Да, ты живешь мастерски, живешь чисто и прекрасно, — продолжал он, — но все-таки... быть посвободнее в гроше никогда не мешает. Конечно, я пред тобою много виноват...
— Ты виноват? Чем это? я не знаю.
— Ну, помнишь, ведь я обещал тебе, что я буду помогать, и даже определил тебе триста рублей в год, но мне, дружочек Лара, так не везет, — добавил он, сжимая руку сестре, — мне так не везет, что даже одурь подчас взять готова! Тяжко наше переходное время! То принципы не идут в согласие с выгодами, то... ах, да уж лучше и не поднимать этого! Вообще тяжело человеку в наше переходное время.
— Вообще ты напоминаешь мне о том, Жозеф, о чем я давно позабыла.
— То есть, о чем же я тебе напоминаю?
— О твоем обещании, которое ты исполнять отнюдь не должен, потому что имеешь теперь уже свою семью, и о том, как живется человеку в наше переходное время. Я его ненавижу.
— Что же, разве ты перешла «переходы» и видишь пристанище? — пошутил Висленев, гладя сестру по руке и смотря ей в глаза.
— Пристанище в том: жить как живется.
— Ой, шутишь, сестренка!
— Нимало.
— Тебе всего ведь девятнадцать лет.
— Нет, через месяц двадцать.
— Пора бы тебе и замуж.
Лариса рассмеялась и отвечала:
— Не берут.
— Ой, лжешь ты, Лара, лжешь, чтобы тебя не брали! Ты хороша, как пери.
— Полно, пожалуйста.
— Ей-Богу! Ведь ты ослепительно хороша! Погляди-ка на меня! Фу ты, Господи! Что за глазищи: мрак и пламень, и сердце не камень.
— Камень, Иосаф, — отвечала, улыбаясь, Лара.
— Врешь, Ларка! Я тебя уже изловил.
— Ты изловил меня?.. На чем?
— На гусиной печенке.
Лариса выразила непритворное удивление.
— Не понимаешь? Полно, пожалуйста, притворяться! Нам, брат, Питер-то уже глаза повытер, мы всюду смотрим и всякую штуку замечаем. Ты зачем, Подозерову полчаса целых искала в супе печенку?
— Ах, это-то... Подозерову!
И Лариса вспыхнула.
— Стыд не потерян, — сказал Иосаф Платонович, — но выбор особых похвал не заслуживает.
— Выбора нет.
— Что же это... Так?
— Именно так... ничего.
— Ну, я так и говорил.
— Ты так говорил?.. Кому и что так ты говорил?
— Нет, это так, пустяки. Горданов меня спрашивал, просватана ты или нет? а я говорю: «с какой стати?»
Висленев вздохнул, выпустил клуб сигарного дыма и, потеребя сестру за мизинец, проговорил:
— Покрепись, Ларушка, покрепись, подожди! У меня все это настраивается, и прежде Бог даст хорошенько подкуемся, а тогда уж для всех и во всех отношениях пойдет не та музыка. А теперь покуда прощай, — добавил он, вставая и целуя Ларису в лоб, а сам подумал про себя: «Тьфу, черт возьми, что это такое выходит! Хотел у ней попросить, а вместо того ей же еще наобещал».
Лариса молча пожала его руку.
— А мой портфель, который я тебе давеча отдал, у тебя? — спросил, простившись, Висленев.
— Нет; я положила его на твой стол в кабинете.
— Ай! зачем же ты это сделал так неосторожно?
— Но ведь он, слава Богу, цел?
— Да, это именно слава Богу; в нем сорок тысяч денег, и не моих еще вдобавок, а гордановских.
— Он так богат?
— Н... н... не столько богат, как тороват, он далеко пойдет. Это человек как раз по времени, по сезону. Меня, признаюсь, очень интересует, как он здесь, понравится ли?
— Я думаю.
— Нет; ведь его, дружок, надо знать так, как я его знаю; ведь это голова, это страшная голова!
— Он умен.
— Страшная голова!.. Прощай, сестра.
И брат с сестрой еще раз простились и разошлись.
Зала стемнела, и в дверях Ларисы щелкнул замок, повернутый ключом из ее спальни.
— Ключ! — прошептал, услыхав этот звук, Иосаф Платонович, стоя в раздумье над своим письменным столом, на котором горели две свечи и между ними лежал портфель.
— Ключ! — повторял он в раздумье и, взяв в руки портфель, повертел его, пожал, завел под его крышку костяной ножик, поштурфовал им во все стороны и, бросив с досады и ножик, и портфель, вошел в залу и постучал в двери сестриной спальни.
— Что тебе нужно, Жозеф? — отозвалась Лариса.
— К тебе, Лара, ходит какой-нибудь слесарь?
— Да, когда нужно, у Синтяниных есть слесарь солдат, — отвечала сквозь двери Лариса.
— Пошли за ним, пожалуйста, завтра он мне нужен.
— Хорошо. А кстати, Жозеф, ты завтра делаешь кому-нибудь визиты?
— Кому же, Лара?
— Бодростиной, например?
— Бодростиной! Зачем?
— Мы же с ней в родстве: она двоюродная сестра твоей жены, и она у меня бывает.
— Да, милый друг, мы с ней в родстве, но не в согласии, — проговорил, уходя, брат. — Прощай, Ларушка.
— Спокойной ночи, брат.
«Да, да, да, — мысленно проговорил себе Иосаф Платонович, остановившись на минуту пред темными стеклами балконной двери. — Да, и Бодростина, и Горданов, это все свойственники... Свойство и дружество!.. Нет, друзья и вправду, видно, хуже врагов. Ну, да еще посмотрим, кто кого? Старые охотники говорят, что в отчаянную минуту и заяц кусается, а я хоть и загнан, но еще не заяц».
Глава восьмая. Из балета «Два вора». Покойная ночь, которую все пожелали Висленеву, была неспокойная. Простясь с сестрой и возвратясь в свой кабинет, он заперся на ключ и начал быстро ходить взад и вперед. Думы его летели одна за другою толпами, словно он куда-то несся и обгонял кого-то на ретивой тройке, ему, очевидно, было сильно не по себе: его точил незримый червь, от которого нельзя уйти, как от самого себя.
— Весь я истормошился и изнемог, — говорил он себе. — Здесь как будто легче немного, в отцовском доме, но надолго ли?.. Надолго ли они не будут знать, что я из себя сделал?.. Кто я и что я?.. Надо, надо спасаться! Дни ужасно быстро бегут, сбежали безвестно куда целые годы, перевалило за полдень, а я еще не доиграл ни одной... нет, нужна решимость... квит или двойной куш!
Висленев нетерпеливо сбросил пиджак и жилетку и уже хотел совсем раздеваться, но вместо того только завел руку за расстегнутый ворот рубашки и до крови сжал себе ногтями кожу около сердца. Через несколько секунд он ослабил руку, подошел в раздумье к столу, взял перочинный ножик, открыл его и приставил к крышке портфеля.
«Раз — и все кончено, и все объяснится», — пробежало в его уме.
— Но если тут действительно есть такие деньги? Если... Горданов не лгал, а говорил правду? Откуда он мог взять такие ценные бумаги? Это ложь... но, однако, какое же я имею право в нем сомневаться? Ведь во всех случаях до сих пор он меня выручал, а я его... и что же я выиграю оттого, если удостоверюсь, что он меня обманывает и хочет обмануть других? Я ничего не выигрываю. А если он действительно владеет верным средством выпутаться сам и меня выпутать, то я, обличив пред ним свое неверие, последним поклоном всю обедню себе испорчу. Нет!
Он быстрым движением бросил далеко от себя нож, задул свечи и, распахнув окно в сад, свесился туда по грудь и стал вдыхать свежий ночной воздух.
Ночь была тихая и теплая, по небу шли грядками слоистые облака и заслоняли луну. Дождь, не разошедшийся с вечера, не расходился вовсе. На усыпанной дорожке против окна Ларисиной комнаты лежали три полосы слабого света, пробивавшегося сквозь опущенные шторы.
«Сестра не спит еще, — подумал Висленев. — Бедняжка!.. Славная она, кажется, девушка... только никакого в ней направления нет... а вправду, черт возьми, и нужно ли женщинам направление? Правила, я думаю, нужнее. Это так и было: прежде ценили в женщинах хорошие правила, а нынче направление... мне, по правде сказать, в этом случае старина гораздо больше нравится. Правила, это нечто твердое, верное, само себя берегущее и само за себя ответствующее, а направление... это: день мой — век мой. Это все колеблется, переменяется и мятется, и в своих перебиваниях, и в своих задачах. И что такое это наше направление?.. Кто мы и что мы? Мы лезем на места, не пренебрегаем властью, хлопочем о деньгах и полагаем, что когда заберем в руки и деньги, и власть, тогда сделаем и «общее дело»... но ведь это все вздор, все это лукавство, никак не более, на самом же деле теперь о себе хлопочет каждый... Горданов служил в Польше, а разве он любит Россию? Он потом учредил кассу ссуд на чужое имя, и драл и с живого и с мертвого, говоря, что это нужно для «общего дела», но разве какое-нибудь общее дело видало его деньги? Он давал мне взаймы... но разве мое нынешнее положение при нем не то же самое, что положение немца, которого Блонден носил за плечами, ходя по канату? Я должен сидеть у него на закорках, потому что я должен... Прегадкий каламбур! Но мой Блонден рано или поздно полетит вниз головой... он не сдобрует, этот чудотворец, заживо творящий чудеса, и я с ним вместе сломаю себе шею... я это знаю, я это чувствую и предвижу. Здесь, в родительском доме, мне это ясно, до боли в глазах... мне словно кто-то шепчет здесь: «Кинь, брось его и оглянись назад…. А назади?..»
Ему в это мгновение показалось, что позади его кто-то дышит.
Висленев быстро восклонился от окна и глянул назад.
По полу, через всю переднюю, лежала чуть заметная полоса слабого света и ползла через открытую дверь в темный кабинет и здесь терялась во тьме.
«Луна за облаком, откуда бы мог быть этот свет?» — подумал Висленев, тихо вышел в переднюю и вздрогнул.
Высокий фасад большого дома, занимаемого семейством Синтянина, был весь темен, но в одном окне стояла легкая, почти воздушная белая фигура, с лицом, ярко освещенным двумя свечами, которые горели у ней в обеих руках.
Это не была Александра Ивановна, это легкая, эфирная, полудетская фигура в белом, но не в белом платье обыкновенного покроя, а в чем-то вроде ряски монастырской белицы. Стоячий воротничок обхватывает тонкую, слабую шейку, детский стан словно повит пеленой, и широкие рукава до локтей открывают тонкие руки, озаренные трепетным светом горящих свеч. С головы на плечи вьются светлые русые кудри, и два черные острые глаза глядят точно не видя, а уста шевелятся.
«И что она делает, стоя со свечами у окна? — размышлял Висленев. — И главное, кто это такой: ребенок, женщина или, пожалуй, привидение... дух!.. Как это смешно! Кто ты? Мой ангел ли спаситель иль темный демон искуситель? А вот и темно... Как странно у нее погас огонь! Я не видал, чтоб она задула свечи, а она точно сама с ними исчезла... Что это за явление такое? Завтра первым делом спрошу, что это за фея у них мерцает в ночи? Не призываюсь ли я вправду к покаянию? О, да, о, да, какая разница, если б я приехал сюда один, именно для одной сестры, или теперь?.. Мне тяжело здесь с демоном, на которого я возложил мои надежды. Сколько раз я думал прийти сюда как блудный сын, покаяться и жить как все они, их тихою, простою жизнью... Нет, все не хочется смириться, и надежда все лжет своим лепетом, да и нельзя: в наш век отсылают к самопомощи... Сам себе, говорят, помогай, то есть то же, что крадь, что ли, если не за что взяться? Вот от этого и мошенников стало очень много. Фу, Господи, откуда и зачем опять является в окне это белое привидение! Что это?.. Обе руки накрест и свечи у ушей взмахнула... Нет ее... и холод возле сердца... Ну, однако, мои нервы с дороги воюют. Давно пора спать. Нечего думать о мистериях блудного сына, теперь уж настала пора ставить балет Два вора... Что?.. — и он вдруг вздрогнул при последнем слове и повторил в уме: «балет Два вора». — Ужасно!.. А вон окно-то в сад открыто о сю пору... Какая неосторожность! Сад кончается неогороженным обрывом над рекой... Вору ничего почти не стоит забраться в сад и... украсть портфель. — Висленев перешел назад в свой кабинет и остановился. — Так ничего невозможно сделать с такою нерешительностью... — соображал он, — «оттого мне никогда и не удавалось быть честным, что я всегда хотел быть честнее, чем следует, я всегда упускал хорошие случаи, а за дрянные брался... Горданов бы не раздумывал на моем месте обревизовать этот портфель, тем более, что сюда в окна, например, очень легко мог влезть вор, взять из портфеля ценные бумаги... а портфель... бросить разрезанный в саду... Отчего я не могу этого сделать? Низко?.. Перед кем? Кто может это узнать... Гораздо хуже: я хотел звать слесаря. Слесарь свидетель... Но самого себя стыдно. Сердце бьется! Но я ведь и не хочу ничего взять себе, это будет только хитрость, чтобы знать: есть у Горданова средства повести какие-то блестящие дела или все это вздор? Конечно, конечно; это простительно, даже это нравственно — разоблачать такое темное мошенничество! Иначе никогда на волю не выберешься... Где нож? Куда я его бросил! — шептал он, дрожа и блуждая взором по темной комнате. — Фу, как темно! Он, кажется, упал под кровать...»
Висленев начал шарить впотьмах руками по полу, но ножа не было.
— Какая глупость! Где спички?
Он начал осторожно шарить по столу, ища спичек, но и спичек тоже не было.
— Все не то, все попадается портфель... Вот, кажется, и спички... Нет!.. Однако же какая глупость... с кем это я говорю и дрожу... Где же спички?.. У сестры все так в порядке и нет спичек... Что?.. С какой стати я сказал: «у сестры...» Да, это правда, я у сестры, и на столе нет спичек... Это оттого, что они, верно, у кровати.
Он, чуть касаясь ногами пола, пошел к кровати: здесь было еще темнее. Опять надо было искать на ощупь, но Висленев, проводя руками по маленькому столику, вдруг неожиданно свалил на пол колокольчик, и с этим быстро бросился обутый и в панталонах в постель и закрылся с головой одеялом.
Его обливал пот и в то же время била лихорадка, в голове все путалось и плясало, сдавалось, что по комнате кто-то тихо ходит, стараясь не разбудить его.
— Не лучше ли дать знать, что я не крепко сплю и близок к пробуждению? — подумал Иосаф Платонович и притворно вздохнул сонным вздохом и, потянувшись, совлек с головы одеяло.
В жаркое лицо ему пахнула свежая струя, но в комнате было все тихо.
«Сестра притихла; или она вышла», — подумал он и ворохнулся посмелее.
Конец спустившегося одеяла задел за лежавший на полу колокольчик, и тот, медленно дребезжа о края язычком, покатился по полу. Вот он описал полукруг и все стихло, и снова нигде ни дыхания, ни звука, и только слышно Висленеву, как крепко ударяет сердце в его груди; он слегка разомкнул ресницы и видит — темно.
— Да, может быть, сестра сюда вовсе и не входила, может, все это мне только послышалось... или, может быть, не послышалось... а сюда входила не сестра... а сад кончается обрывом над рекой... ограды нет, и вор... или он сам мог все украсть, чтобы после обвинить меня и погубить!
Висленев быстро сорвался с кровати, потянул за собою одеяло и, кинувшись к столу, судорожными руками нащупал портфель и пал на него грудью.
Несколько минут он только тяжело дышал и потом, медленно распрямляясь, встал, прижал портфель обеими руками к груди и, высунувшись из окна, поглядел в сад.
Ночь темнела пред рассветом, а на песке дорожки по-прежнему мерцали три полоски света, проходящего сквозь шторы итальянского окна Ларисиной спальни.
— Неужто это Лара до сих пор не спит? А может быть, у нее просто горит лампада. Пойти бы к ней и попросить у нее спички? Что ж такое? Да и вообще чего я пугаюсь! Вздор все это; гиль! Я не только должен удостовериться, а я должен... взять, да, взять, взять... средство, чтобы самому себе помогать... Презираю себя, презираю других, презираю то, что меня могут презирать, но уж кончу же это все разом! Прежде всего разбужу сестру и возьму спичек, тут нет ничего непозволительного? Нездоровится, не спится, а спичек не поставлено, или я не могу их найти?
Висленев прокрался в самый темный угол к камину и поставил там портфель за часы, а потом подошел к запертой двери в зал и осторожно повернул ключ.
Замочная пружина громко щелкнула, и дверь в залу отворилась.
Ну уж теперь надобно идти!
Он подошел к дверям сестриной комнаты, но вдруг спохватился и стал.
«Это никуда не годится, — решил он. — Зачем мне огонь? В саду может кто-нибудь быть, и ему все будет видно ко мне в окно, что я делаю! Теперь ночь, это правда, но самые неожиданные случайности часто выдавали самые верно рассчитанные предприятия. Положим, я могу опустить штору, но все-таки будет известно, что я просыпался и что у меня был огонь... тень может все выдать, надо бояться и тени».
Он сделал два шага назад и остановился против балконной двери.
«Не лучше ли отворить эту дверь? Это было бы прекрасно... Тогда могло бы все пасть на то, что забыли запереть дверь и ночью взошел вор, но...»
Он уж хотел повернуть ключ и остановился: опять пойдет это замочное щелканье, и потом... это неловко... могут пойти гадкие толки, вредные для чести сестры...
Висленев отменил это намерение и тихо возвратился в свой кабинет. Осторожно, как можно тише притворил он за собою дверь из залы, пробрался к камину, на котором оставил портфель, и вдруг чуть не свалил заветных часов. Его даже облил холодный пот, но он впотьмах, не зная сам, каким чудесным образом подхватил часы на лету, взял в руки портфель и, отдохнув минуту от волнения, начал хладнокровно шарить руками, ища по полу заброшенного ножа.
Хладнокровная работа оказалась далеко успешнее давишних судорог, и ножик скоро очутился в его руках. Взяв в руки нож, Висленев почувствовал твердое и неодолимое спокойствие. Сомнения его сразу покинули, — о страхах не было и помину. Теперь ему никто и ничто не помешает вскрыть портфель, узнать, действительно ли там лежат ценные бумаги, и потом свалить все это на воров. Размышлять больше не о чем, да и некогда, нож, крепко взятый решительною рукой, глубоко вонзился в спай крышки портфеля, но вдруг Висленев вздрогнул, нож завизжал, вырвался из его рук, точно отнятый сторонней силой, и упал куда-то далеко за окном, в густую траву, а в комнате, среди глубочайшей ночной тишины, с рычаньем раскатился оглушительный звон, треск, шипение, свист и грохот.
Висленев схватился за косяк окна и не дышал, а когда он пришел в себя, пред ним стояла со свечой в руках Лариса, в ночном пеньюаре и круглом фламандском чепце на черных кудрях.
— Что здесь такое, Joseph? — спросила она голосом тихим и спокойным, но наморщив лоб и острым взглядом окидывая комнату.
— А... что такое?
— Зачем ты пустил эти часы! Они уже восемнадцать лет стояли на минуте батюшкиной смерти... а ты их стронул.
— Ну, да я испугался и сам! — заговорил, оправдываясь, Висленев. — Они подняли здесь такой содом, что мертвый бы впал в ужас.
— Ну да, это не мудрено, у них давно все перержавело, и разумеется, как колеса пошли, так и скатились все до нового завода. Тебе не надо было их пускать.
— Да я и не пускал.
— Помилуй, кто же их пустил? Они всегда стояли.
— Я тебе говорю, что я их не пускал.
— Ты, верно, их толкнул или покачнул неосторожно. Они стояли без четырех минут двенадцать, прошли несколько минут и начали бить, пока сошел завод. Я сама не менее тебя встревожилась, хотя я еще и не ложилась спать.
— А я ведь, представь ты, спал и очень крепко спал, и вдруг здесь этот шум и... кто-то... словно бросился в окно... я вспрыгнул и вижу... портфель... где он?
— Он вот у тебя, у ног.
— Да вот... — и он нагнулся к портфелю.
Лариса быстро отвернулась и, подойдя к камину, на котором стояли часы, начала поправлять их, а затем задула свечу и, переходя без огня в переднюю, остановилась у того окна, у которого незадолго пред тем стоял Висленев.
— Чего ты смотришь? — спросил он, выходя вслед за сестрой.
— Смотрю, нет ли кого на дворе.
— Ну и что же: нет никого?
— Нет, я вижу, кто-то прошел.
— Кто прошел? Кто?
— Это, верно, жандарм.
— Что? жандарм! Зачем жандарм? — И Висленев подвинулся за сестрину спину.
— Здесь это часто... К Ивану Демьянычу депеша или бумага, и больше ничего.
— А, ну так будем спать!
Лариса не подала брату руки, но молча подставила ему лоб, который был холоден, как кусок свинца.
Висленев ушел к себе, заперся со всех сторон и, опуская штору в окне, подумал: «Ну, черт возьми совсем! Хорошо, что это еще так кончилось! Конечно, там мой нож за окном... Но, впрочем, кто же знает, что это мой нож?.. Да и если я не буду спать, то я на заре пойду и отыщу его...»
И с этим он не заметил, как уснул.
Лариса между тем, войдя в свою комнату, снова заперлась на ключ и, став на средине комнаты, окаменела.
— Боже! Боже мой! — прошептала она, приходя чрез несколько времени в себя, — да неужто же мои глаза... Неужто он!
И она покрылась яркою краской багрового румянца и перешла из спальни в столовую. Здесь она села у окна и, спрятавшись за косяком, решилась не спать, пока настанет день и проснется Синтянина.
Ждать приходилось недолго, на дворе уже заметно серело, и у соседа Висленевых, в клетке, на высоком шесте, перепел громко ударял свое утреннее «бак-ба-бак!». Глава девятая. Дока на доку нашел.
Чтоб идти далее, надо возвратиться назад к тому полуночному часу, в который Горданов уехал из дома Висленевых к себе в гостиницу.
Мы знаем, что когда Павел Николаевич приехал к себе, было без четверти двенадцать часов. Он велел отпрягать лошадей и, проходя по коридору, кликнул своего нового слугу.
— Ко мне должны сейчас приехать мои знакомые: дожидай их внизу и встреть их и приведи, — велел он лакею.
— Понимаю-с.
— Ничего ты не понимаешь, а иди и дожидайся. Подай мне ключ, я сам взойду один.
— Ключа у меня нет-с, потому что там, в передней, вас ожидают с письмом от Бодростиных.
— От Бодростиных! — изумился Горданов, который ожидал совсем не посланного.
— Точно так-с.
— Давно?
— Минуты три, не больше, я только проводил и шел сюда.
— Хорошо, все-таки жди внизу, — приказал Горданов и побежал вверх, прыгая через две и три ступени.
«Человек с письмом! — думал он, — это, конечно, ей помешало что-нибудь очень серьезное. Черт бы побрал все эти препятствия в такую пору, когда все больше чем когда-нибудь висит на волоске».
С этим он подошел к двери своего ложемента, нетерпеливо распахнул ее и остановился.
Коридор был освещен, но в комнатах стояла непроглядная темень.
— Кто здесь? — громко крикнул Горданов на пороге и мысленно ругнул слугу, что в номере нет огня, но, заметив в эту минуту маленькую гаснущую точку только что задутой свечи, повторил гораздо тише, — кто здесь такой?
— Это я! — отвечал ему из темноты тихий, но звучный голос.
Горданов быстро переступил порог и запер за собою дверь.
В это мгновение плеча его тихо коснулась мягкая, нежная рука. Он взял эту руку и повел того, кому она принадлежала, к окну, в которое слабо светил снизу уличный фонарь.
— Ты здесь? — воскликнул он, взглянув в лицо таинственного посетителя.
— Как видишь... Один ли ты, Павел?
— Один, один, и сейчас же совсем отошлю моего слугу.
— Пожалуйста, скорей пошли его куда-нибудь далеко... Я так боюсь... Ведь здесь не Петербург.
— О, перестань, все знаю и сам дрожу.
Он свесился в окно и позвал своего человека по имени.
— Куда бы только его послать, откуда бы он не скоро воротился?
— Пошли его на извозчике в нашу оранжерею купить цветов. Он не успеет воротиться раньше утра.
Горданов ударил себя в лоб и, воскликнув: «отлично!» — выбежал в коридор. Здесь, столкнувшись нос с носом с своим человеком, он дал ему двадцать рублей и строго приказал сейчас же ехать в бодростинское подгородное имение, купить там у садовника букет цветов, какой возможно лучше, и привезти его к утру.
Слуга поклонился и исчез.
Горданов возвратился в свой номер. В его гостиной теплилась стеариновая свеча, слабый свет которой был заслонен темным силуэтом человека, стаявшего ко входу спиной.
— Ну вот и совсем одни с тобой! — заговорил Горданов, замкнув на ключ дверь и направляясь к силуэту.
Фигура молча повернулась и начала нетерпеливо расстегивать напереди частые пуговицы черной шинели.
Горданов быстро опустил занавесы на всех окнах, зажег свечи, и когда кончил, пред ним стояла высокая стройная женщина, с подвитыми в кружок темно-русыми волосами, большими серыми глазами, свежим приятным лицом, которому небольшой вздернутый нос и полные пунцовые губы придавали выражение очень смелое и в то же время пикантное. Гостья Горданова была одета в черной бархатной курточке, в таких же панталонах и высоких, черных лакированных сапогах. Белую, довольно полную шею ее обрамлял отложной воротничок мужской рубашки, застегнутой на груди бриллиантовыми запонками, а у ног ее на полу лежала широкополая серая мужская шляпа и шинель. Одним словом, это была сама Глафира Васильевна Бодростина, жена престарелого губернского предводителя дворянства, Михаила Андреевича Бодростина, — та самая Бодростина, которую не раз вспоминали в висленевском саду.
Сбросив неуклюжую шинель, она стояла теперь, похлопывая себя тоненьким хлыстиком по сапогу, и с легкою тенью иронии, глядя прямо в лицо Горданову, спросила его:
— Хороша я, Павел Николаевич?
— О да, о да! Ты всегда и во всем хороша! — отвечал ей Горданов, ловя и целуя ее руки.
— А я тебе могу ведь, как Татьяна, сказать, что «прежде лучше я была и вас, Онегин, я любила».
— Тебе нет равной и теперь.
— А затем мне, знаешь, что надобно сделать?.. Повернуться и уйти, сказав тебе прощайте, или... даже не сказав тебе и этого.
— Но ты, разумеется, так не поступишь, Глафира?
Она покачала головой и проговорила:
— Ах, Павел, Павел, какой ты гнусный человек!
— Брани меня, как хочешь, но одного прошу: позволь мне прежде всего рассказать тебе?..
— Зачем?.. Ты только будешь лгать и сделаешься жалок мне и гадок, а я совсем не желаю ни плакать о тебе, как было в старину, ни брезговать тобой, как было после, — отвесила с гримасой Бодростина и, вынув из бокового кармана своей курточки черепаховый портсигар с серебряною отделкой, достала пахитоску и, отбросив ногой в сторону кресло, прыгнула и полулегла на диван.
Горданов подвел ей под локоть подушку. Бодростина приняла эту услугу безо всякой благодарности и, не глядя на него, сказала:
— Подай мне огня!
Глафира Васильевна зажгла пахитоску и откинулась на подушку.
— Что ты смеешься? — спросила она сухо.
— Я думаю: какой бы это был суд, где женщины были бы судьями? Ты осуждаешь меня, не позволяя мне даже объясниться.
— Да; объясниться, — это давняя мужская специальность, но она уже нам надоела. В чем ты можешь объясниться? В чем ты мне не ясен? Я знаю все, что говорится в ваших объяснениях. Ваш мудрый пол довольно глуп: вы очень любите разнообразие; но сами все до утомительности однообразны.
Она подняла вверх руку с дымящеюся пахитоской и продекламировала:
Кто устоит против разлуки, —
Соблазна новой красоты,
Против бездействия и скуки,
И своенравия мечты?
— Не так ли?
— Вовсе нет.
— О, тогда еще хуже!.. Резоны, доводы, примеры и пара фактов из подвигов каких-то дивных, всепрощавших женщин, для которых ваша память служит синодиком, когда настанет покаянное время... все это скучно и не нужно, Павел Николаич.
— Да ты позволь же говорить! Быть может, я и сам хочу говорить с тобой совсем не о чувствах, а...
— О принципах... Ах, пощади и себя, и меня от этого шарлатанства! Оставим это донашивать нашим горничным и лакеям. Я пришла к тебе совсем не для того, чтоб укорять тебя в изменах; я не из тех, которые рыдают от отставок, ты мне чужой...
— Позволь тебе немножко не поверить?
Бодростина тихонько перегнула голову и, взглянув через плечо, сказала серьезно:
— А ты еще до сих пор в этом сомневался.
— Признаюсь тебе, и нынче сомневаюсь.
— Скажите Бога ради! А я думала всегда, что ты гораздо умнее! Пожалуйста же, вперед не сомневайся. Возьми-ка вот и погаси мою пахитосу, чтоб она не дымила, и перестанем говорить о том, о чем уже давно пора позабыть.
Горданов замял пахитоску.
В то время как он был занят такою работой, Бодростина пересела в угол дивана и, сложив на груди руки, начала спокойным, деловым тоном:
— Если ты думал, что я тебя выписывала сюда по сердечным делам, то ты очень ошибался. Я, cher ami [Дорогой друг (фр.).], стара для этих дел — мне скоро двадцать восемь лет, да и потом, если б уж лукавый попутал, то как бы нибудь и без вас обошлась.
Бодростина завела руку за голову Горданова и поставила ему с затылка пальцами рожки.
Горданов увидал это в зеркало, засмеялся, поймал руку Глафиры Васильевны и поцеловал ее пальцы.
— Ты похож на мальчишку, которого высекут и потом еще велят ему целовать розгу, но оставь мою руку и слушай. Благодарю тебя, что ты приехал по моему письму: у меня есть за тобою долг, и мне теперь понадобился платеж...
Горданов сконфузился.
— Что, видишь, какая презренная проза нас сводит!
— Истинно презренная, потому что я... гол, как турецкий святой, с тою разницею, что даже лишен силы чудотворения.
— Ты совсем не о том говоришь, — возразила Бодростина, — я очень хорошо знаю, что ты всегда гол, как африканская собака, у которой пред тобой есть явные преимущества в ее верности, но мне твоего денежного платежа и не нужно. Вот, на? тебе еще!
Она вынула с этим из-за жилета пачку новых сторублевых ассигнаций и бросила их на стол.
— Но я не возьму этого, Глафира!
— Возьмешь, потому что это нужно для моего дела, которое ты должен сделать, потому что я на одного тебя могу положиться. Ты должен мне заплатить один невещественный долг.
— Скажи яснее. Какой? Их множество.
— Перечти все важнейшие случаи в наших с тобой столкновениях. Начинай назад тому семь лет, ты, молодой студент, вошел «в хижину бедную, Богом хранимую», в качестве учителя двенадцатилетнего мальчика и, встретив в той хижине «за Невой широкою, деву светлоокую», ты занялся развитием сестры более, чем уроками брата. Кончилось все это тем, что «дева» увлеклась пленительною сладостью твоих обманчивых речей и, положившись на твои сладкие приманки в алюминиевых чертогах свободы и счастия, в труде с беранжеровскими шансонетками, бросила отца и мать и пошла жить с тобою «на разумных началах», глупее которых ничего невозможно представить. Колоссальная дура эта была я. Подтверди это.
— Что ж тут подтверждать! Собственное сознание лучше свидетельства целого света.
— Какая у тебя холодная натура, Горданов! Я еще до сих пор не отвыкла стыдиться, что ты когда-то для меня нечто значил. Но я все-таки дорисую тебе вашей честности портрет. Я тебе скоро надоела, потому что вам всякий надоедает, кому надобно есть. Вы все, господа, очень опрометчиво поступали, склоняя женщин жить только плотью и не верить в душу: вам гораздо сподручнее были бы бесплотные; но я, к сожалению, была не бесплотная и доказала вам это живым существом, которое вы «во имя принципа» сдали в воспитательный дом. Потом вы... хотели спустить меня с рук, обратить меня в карту для игры с передаточным вистом. «Такие, дескать, у нас правила игры»; но я вам плюнула на ваши «правила игры» и стала казаться опасною... Вы боялись, чтоб я сдуру не повесилась, и положили спровадить меня к отцу и к матери: «вот, дескать, ваша дочка! Не говорите, что мы разбойники и воры, мы ее совсем не украли, а поводили, поводили, да и назад привели». Но я и на такие курбеты была неспособна: сидеть с вашими стрижеными, грязношеими барышнями и слушать их бесконечные сказки «про белого бычка», да склонять от безделья слово «труд», мне наскучило; ходить по вашим газетным редакциям и не выручать тяжелою работой на башмаки я считала глупым, и в том не каюсь... Конечно, было средство женить на себе принципного дурака, сказать, что я стеснена в своей свободе, и потребовать, чтобы на мне женился кто-нибудь «из принципа», вроде Висленева... но мне все «принципные» после вас омерзели... Тогда решились попрактиковать на мне еще один принцип: пустить меня, как красивую женщину, на поиски и привлеченье к вам богатых людей... и я, ко всеобщему вашему удивлению, на это согласилась, но вы, тогдашние мировые деятели, были все столько глупы, что, вознамерясь употребить меня вместо червя на удочку для приманки богатых людей, нужных вам для великого «общего дела», не знали даже, где водятся эти золотые караси и где их можно удить... На ваше счастье, отыскался какой-то пан Холявский, или пан Молявский: он пронюхал, что есть миллионер, помещик трех губерний, заводчик и фабрикант и предводитель благородного дворянства Бодростин, который желал бы иметь красивую лектрису. Место это тонкость пана Холявского и ваше великодушие и принцип приспособили мне, обусловив дело тем, что половина изо всего, что за меня будет выручено, должна поступить на «общее дело», а другая половина на «польское дело». Вы это помните?
— Конечно.
— И помните, как я жестоко обманула вас и их, и «общее дело»? Ха-ха-ха!.. Послушай, Павел Николаевич! Ты давеча хотел целовать руки: изволь же их, я позволяю тебе, целуй их, целуй, они надели на вас такие дурацкие колпаки с ослиными ушами, это стоит благодарности.
Бодростина опять расхохоталась.
— Как весело! — сказал Горданов.
— Ах, когда бы ты вправду знал, как это весело надуть бездельников и негодяев! Ха-ха-ха... Ой!.. Подайте мне, пожалуйста, воды, а то со мной сделается истерика от смеху.
Горданов встал, подал воды и, сидя в кресле, нагнулся лицом к коленам. Бодростина жадно глотала воду и все продолжала смеяться, глядя на Горданова чрез край стакана.
— Возьми прочь, — наконец выговорила она сквозь смех, опуская на пол недопитый стакан, и в то время как Горданов нагнулся, чтобы поднять этот стакан, она, полушутя, полусерьезно, ударила его по спине своим хлыстом.
Павел Николаевич вспрыгнул и побледнел. Бодростина еще дерзче захохотала.
— Это очень неприятная шутка: от нее больно! — весь трясясь от злобы, сказал Горданов.
Бодростина в одно мгновение эластическим тигром соскочила с дивана и стала на ноги.
— А-а, — заговорила она с презрительной улыбкой. — Вам больна эта шутка с хлыстом, тогда как вы меня всю искалечили... в лектрисы пристраивали... и я не жаловалась, не кричала «больно». Нет, я вас слушала, я вас терпела, потому что знала, что, повесившись, надо мотаться, а, оторвавшись, кататься: мне оставалась одна надежда — мой царь в голове, и я вас осмеяла... Я пошла в лектрисы потому... что знала, что не могу быть лектрисой! Я знала, что я хороша, я лучше вас знала, что красота есть сила, которой не чувствовали только ваши тогдашние косматые уроды... Я пошла, но я не заняла той роли, которую вы мне подстроили, а я позаботилась о самой себе, о своем собственном деле, и вот я стала «ее превосходительство Глафира Васильевна Бодростина», делающая неслыханную честь своим посещением перелетной птице, господину Горданову, аферисту, который поздно спохватился, но жадно гонится за деньгами и играет теперь на своей и чужой головке. Но вы такой мне и нужны.
— Я готов служить вам, чем могу.
— Верю: я всегда знала, что у вас есть point d'honneur 1, своя «каторжная совесть».
— Я сделаю все, что могу.
— Женитесь для меня на старухе!
— Вы шутите?
— Нимало.
— Я не могу этого принимать иначе как в шутку.
— Да, вы правы, я не хочу вас мучить: мне не надо, чтобы вы женились на старухе. Я фокусов не люблю. Нет, вот в чем дело...
— Который раз ты это начинаешь?
Бодростина вместо ответа щелкнула себя своим хлыстом по ноге и потом, подняв этот тонкий хлыст за оба конца двумя пальцами каждой руки, протянула его между своими глазами и глазами Горданова в линию и проговорила:
— Старик мой очень зажился!
1 Представление о чести (фр.).
Горданов отступил шаг назад.
Глафира Васильевна медленно опустила хлыст к своим коленам, медленно сделала два шага вперед к собеседнику и, меряя его холодным проницающим взглядом, спросила:
— Вы, кажется, изумлены?
В глазах у Бодростиной блеснула тревога, но она тотчас совладела с собой и, оглянувшись в сторону, где стояло трюмо, спросила с улыбкой:
— Чего вы испугались, не своего ли собственного отражения?
— Да; но оно очень преувеличено — отвечал Горданов.
— Вы очень впечатлительны и нервны, Поль.
— Нет; я впечатлителен, но я не нервен.
С этими словами он взял руку Бодростиной и добавил:
— Моя рука тепла и суха, а твоя влажна и холодна.
— Да, я нервна, и если у тебя есть стакан шампанского, то я охотно бы его выпила. Не будем ли мы спокойнее говорить за вином?
— Вино готово, — отвечал, уходя в переднюю, Горданов, и через минуту вынес оттуда бутылку и два стакана.
Глава десятая. В органе переменили вал.
— Чокнемся! — сказала Бодростина и, ударив свой стакан о стакан Горданова, выпила залпом более половины и поставила на стол. — Теперь садись со мной рядом, — проговорила она, указывая ему на кресло. — Видишь, в чем дело: весь мир, то есть все те, которые меня знают, думают, что я богата: не правда ли?
— Конечно.
— Ну да! А это ложь. На самом деле я так же богата, как церковная мышь. Это могло быть иначе, но ты это расстроил, а вот это и есть твой долг, который ты должен мне заплатить, и тогда будет мне хорошо, а тебе в особенности... Надеюсь, что могу с вами говорить, не боясь вас встревожить?
Горданов кивнул в знак согласия головой.
— Я тебе откровенно скажу, я никогда не думала тянуть эту историю так долго.
Бодростина остановилась, Горданов молчал. Оба они понимали, что подходят к очень серьезному делу, и очень зорко следили друг за другом.
— Выйдя замуж за Михаила Андреевича, — продолжала Бодростина, — я надеялась на первых же порах, через год или два, быть чем-нибудь обеспеченною настолько, чтобы покончить мою муку, уехать куда-нибудь и жить, как я хочу... и я во всем этом непременно бы успела, но я еще была глупа и, несмотря на все проделанные со мною штуки, верила в любовь... хотела жить не для себя... я тогда еще слишком интересовалась тобой... я искала тебя везде и повсюду: мой муж с первого же дня нашей свадьбы был в положении молодого козла, у которого чешется лоб, и лоб у него чесался недаром: я тебя отыскала. Ты был нелеп. Ты взревновал меня к мужу. Это было с твоей стороны чрезвычайно пошло, потому что должен же ты был понимать, что я не могла же не быть женой своего мужа, с которым я только что обвенчалась; но... я была еще глупее тебя: мне это казалось увлекательным... я любила видеть, как ты меня ревнуешь, как ты, снявши с себя голову, плачешь по своим волосам. Что делать? Я была женщина: ваша школа не могла меня вышколить как собачку, и это меня погубило; взбешенный ревностью, ты оскорблял моего мужа, который пред тобой ни в чем не виноват, который старее тебя на полстолетия и который даже старался и умел быть тебе полезным. Но все еще и не в этом дело: но ты выдал меня, Павел Николаевич, и выдал головой с доказательствами продолжения наших тайных свиданий после моего замужества. Глупая кузина моя, эта злая и пошлая Алина, которую ты во имя «принципа» женской свободы с таким мастерством женил на дурачке Висленеве, по совету ваших дур, вообразила, что я глупа, как все они, и изменила им... выдала их!.. Кого? Кому и в чем могла я выдать? Я могла выдать только одно, что они дуры, но это и без того всем известно; а она, благодаря тебе, выдала мою тайну — прислала мужу мои собственноручные письма к тебе, против которых мне, разумеется, говорить было нечего, а осталось или гордо удалиться, или... смириться и взяться за неветшающее женское орудие — за слезы и моления. Обстоятельства уничтожили меня вконец, а у меня уж слишком много было проставлено на одну карту, чтобы принять ее с кона, и я не постояла за свою гордость: я приносила раскаяние, я плакала, я молила... и я, проклиная тебя, была уже не женой, а одалиской для человека, которого не могла терпеть. Всем этим я обязана тебе! Бодростина хлебнула глоток вина и замолчала.
— Но, Глафира, ведь я же во всем этом не виноват! — сказал смущенный Горданов.
— Нет, ты виноват; мужчина, который не умеет сберечь тайны вверившейся ему женщины, всегда виноват и не имеет оправданий...
— У меня украли твои письма.
— Это все равно, зачем ты дурно их берег? но все это уже относится к архивной пыли прошлого, печально то лишь, что все, что было так легко холодной и нелюбящей жене, то оказалось невозможным для самой страстной одалиски: фонды мои стоят плохо и мне грозит беда.
— Какая?
— Большая и неожиданная! Человек, когда слишком заживется на свете, становится глуп...
— Я слушаю, — промолвил глухо Горданов.
— Мой муж, в его семьдесят четыре года, стал легкомыслен, как ребенок... он стал страшно самоуверен, он кидается во все стороны, рискует, аферирует, не слушает никого и слушает всех... Его окружают разные люди, из которых, положим, иные мне преданы, но у других я преданности себе найти не могу.
— Почему?
— Потому что для них выгоднее быть мне не преданными, таковы здесь Ропшин и Кюлевейн.
— Что это за птицы? — спросил Горданов, поправив назад рукава: это была его привычка, когда он терял спокойствие.
От Бодростиной не укрылось это движение.
— Ропшин... это белокурый чухонец, юноша доброго сердца и небольшой головы, он служит у моего мужа секретарем и находится у всех благотворительных дам в амишках.
— И у тебя?
— Быть может; а Кюлевейн, это... кавалерист, родной племянник моего мужа, — оратор, агроном и мот, приехавший сюда подсиживать дядюшкину кончину; и вот тебе мое положение: или я все могу потерять так, или я все могу потерять иначе.
— Это в том случае, если твой муж заживется, — проговорил Горданов, рассматривая внимательно пробку.
Бодростина отвечала ему пристальным взглядом и молчанием.
— Да, — решил он через минуту, — ты должна получить все... все, что должно по закону, и все, что можно в обход закону. Тут надо действовать.
— Ты сюда и призван совсем не для того, чтобы спать или развивать в висленевской Гефсимании твои примирительные теории.
Горданов удивился.
— Ты почему это знаешь, что я там был? — спросил он.
— Господи! какое удивленье!
— Тебя там тоже ждали, но я, конечно, знал, что ты не будешь.
— Еще бы! Ты лучше расскажи-ка мне теперь, на чем ты сам здесь думал зацепиться? Я что-то слышала: ты мужикам землю, что ли, какую-то подарил?
— Какое там «какую-то»? Я просто подарил им весь надел.
— Плохо.
— Плохо, да не очень: я за это был на виду, обо мне говорили, писали, я имел место...
— Имел и средства?
— Да, имел.
— И все потерял.
— Что ж повторять напрасно.
— И в Петербурге тебе было пришпилили хвостик на гвоздик?
Горданов покраснел и, заставив себя улыбнуться через силу, отвечал:
— Почему это тебе все известно?
— Ах, Боже мой, какая непоследовательность! Час тому назад ты сомневался в том, что ты мне чужой, а теперь уж удивляешься, что ты мне дорог и что я тобой интересуюсь!
— Интересуешься как обер-полицеймейстер.
— Почему же не как любимая женщина... по старой привычке?
Она окинула его двусмысленным взглядом и произнесла другим тоном:
— Вы, Павел Николаевич, просто странны.
Горданов рассмеялся, встал и, заложив большие пальцы обеих рук в жилетные карманы, прошел два раза по комнате.
Бодростина, не трогаясь с места, продолжала расспрос.
— Ты что же, верно, хотел поразменяться с мужиками?
— Да, взять себе берег...
— И построить завод?
— Да.
— На что же строить, на какие средства?.. Ах да: Лариса заложит для брата дом?
— Я никогда об этом не думал, — отвечал Горданов.
Бодростина ударила его шутя пальцем по губам и продолжала:
— Это все что-то старо: застроить, недостроить, застраховать, заложить, сжечь и взять страховые... Я не люблю таких стереотипных ходов.
— Покажи другие, мы поучимся.
— Да, надо поучиться. Ты начал хорошо: квартира эта у тебя для приезжего хороша, — одобрила она, оглянув комнату.
— Лучшей не было.
— Ну да; я знаю. Это по-здешнему считается хорошо. Экипаж, лошадей, прислугу... все это чтоб было... Необходимо, чтобы твое положение било на эффект, понимаешь ты: это мне нужно! План мой таков, что... общего плана нет. В общем плане только одно: что мы оба с тобой хотим быть богаты. Не правда ли?
— Молчу, — отвечал, улыбаясь, Горданов.
— Молчишь, но очень дурное думаешь. — Она прищурила глаза, и после минутной паузы положила свои руки на плечи Горданову, и прошептала: — ты очень ошибся, я вовсе не хочу никого посыпать персидским порошком.
— Чего же ты хочешь?
— Прежде всего здесь стар и млад должны быть уверены, что ты богач и делец, что твоя деревнишка... это так, одна кроха с твоей трапезы.
— Твоими устами пить бы мед.
— Потом... потом мне нужно полное с твоей стороны невнимание»
Горданов беззвучно засмеялся.
— Потом? — спросил он, — что ж далее?
— Потом: ухаживай, конечно, не за первою встречною и поперечною, — падучих звезд здесь много, как везде, но их паденья ничего не стоят: их пятна на пестром незаметны, — один белый цвет марок, — ударь за Ларой, — она красавица, и, будь я мужчина, я бы сама ее в себя влюбила.
— Потом?
— Потом, конечно, соблазни ее, а если не ее — Синтянину, или обеих вместе, — это еще лучше. Вот ты тогда здесь нарасхват!
— Да ты напрасно мне об этом и говоришь, мной здесь, может быть, никто и не захочет интересоваться!
— О, успокойся, будут! У тебя слишком дрянная репутация, чтобы тобой не интересовались!
— Как это приятно слышать! Но кому же известна моя репутация?
— Моему мужу. Он сначала будет вредить тебе, а потом, когда увидит, что мы с тобой враги, он станет тебя защищать, а ты опровергнешь все своим прекрасным образом мыслей: и в тебя начнут влюбляться.
— Ну, вот уж и влюбляться.
— Когда же в провинции не влюблялись в нового человека? Встарь это счастье доставалось перехожим гусарам, а теперь... пока еще влюбляются в новаторов, ну и ты будешь новатор.
— Я что же за новатор?
— Ты? а разве ты уже отменил свое решение прикладывать к практике теорию Дарвина?
Горданов щипал ус и молчал.
— Глотай других, или иначе тебя самого проглотят другие — вывод, кажется, верный, — произнесла Бодростина, — и ты его когда-то очень отстаивал.
— Я и теперь на нем стою.
— А во время о?но, когда я только вышла замуж, Михаил Андреич завещал все состояние мне, и завещание это...
— Цело?
— Да; но только надо, чтоб оно было последнее, чтобы после него не могло быть никакого другого.
Горданов чувствовал, что руки Бодростиной, лежавшие на его плечах, стыли, а на его веках как бы что тяготело и гнало их книзу.
Вышла минута тягостнейшего раздумья: обе фигуры стояли как окаменевшие друг против друга, и наконец Горданов с усилием приподнял глаза и прошептал: «да!»
Бодростина опустила свои руки с его плеч и, взяв его за кисти, сжала их и спросила его шепотом: «союз?»
— На жизнь и на смерть, — отвечал Горданов.
— На смерть... и... потом... на жизнь, — повторила она и, встретив взгляд Павла Николаевича, отодвинула его от себя подалее рукой и сказала: — я советую тебе погасить свечи. С улицы могут заметить, что у тебя светилось до зари, и пойдет тысяча заключений, из которых невиннейшее может повести к подозрению, что ты разбирал и просушивал фальшивые ассигнации. Погаси огонь и открой окно. Я вижу, уже брезжит заря, мне пора брать свою ливрею и идти домой; сейчас может вернуться твой посол за цветами. Я ухожу от цветов к терниям жизни.
Она подошла к окну, которое раскрыл Горданов, погасив сперва свечи, и заговорила:
— Вон видишь ты тот бельведер над домом, вправо, на горе? Тот наш дом, а в этом бельведере, в фонаре, моя библиотека и мой приют. Оттуда я тебе через несколько часов дам знать, верны ли мои подозрения насчет завещания в пользу Кюлевейна... и если они верны... то... этой белой занавесы, которая парусит в открытом окне, там не будет завтра утром, и ты тогда... поймешь, что дело наше скверно, что миг наступает решительный.
С этим она сжала руку Горданова и, взяв со стула свою шинель, начала одеваться. Горданов хотел ей помочь, но она его устранила.
— Я вовсе не желаю, — сказала она, — чтобы ты меня рассматривал в этом уродстве.
— Ты, Душенька, во всех нарядах хороша.
— Только не в траурной ливрее, а впрочем, мне это очень приятно, что ты так весел и шутлив.
— Мешай дело с бездельем: с ума не сойдешь.
— И прекрасно, — продолжала она, застегивая частые петли шинели. — Держись же хорошенько, и если ты не сделаешь ошибки, то ты будешь владеть моим мужем вполне, а потом... обстоятельства покажут, что делать. Вообще заставь только, чтоб от тебя здесь приходили в восторг, в восхищение, в ужас, и когда вода будет возмущена...
— Но ты с ума сошла!.. Твой муж меня не примет!
— О, разумеется, не примет!.. если ты сам к нему приедешь, но если он тебя позовет, тогда, надеюсь, будет другое дело. Пришли ко мне, пожалуйста, Висленева... его я могу принимать, и заставлю его быть трубой твоей славы.
— Но этот шут тебя чуждается.
— А пусть он раз придет, и тогда он больше не будет меня чуждаться. Только уже вы, Павел, пожалуйста, не ведите регистра моим прегрешениям, — нам теперь совсем не до этого вздора... Висленев будет наш козел, на которого мы сложим наши грехи.
— Это очень умно, но ты только должна знать, что он ведь оратор и у него правая пола ума слишком заходит за левую. Он все будет путаться и не распахнется.
— Не бойся, он распахнется, так что его после и не застегнешь.
— Но я тебе хочу сказать, что на нем ужасно трудно что-нибудь сыграть.
— Ну, есть мастера, которые дают концерты и на фаготе.
— Но зачем именно он тебе нужен, он, ничтожный мальчишка?
— А видишь, Поль, когда взрослый человек хочет достать плод, он всегда посылает мальчика трясти дерево.
— Смотри сама: с ним даже и кокетство нужно совершенно особого рода.
— Милый друг, не режь льву мяса, ему на это природа зубы дала.
— Беру мои слова назад.
— А я иду вперед. Прощай!.. Ах, да! завтра же сделай визит губернаторше, и на днях же найдем случай пожертвовать две тысячи рублей в пользу ее детских приютов. Это первая взятка, которую ты кинешь обществу вперед за нужную тебе индульгенцию. Деньги будут, не жалей их, — за все Испания заплатит... Видеться мы с тобой и не будем, пока приедет мой муж: рисковать из-за свиданий непростительно. Висленев же должен быть у меня до тех пор, и чем скорей, тем лучше. Да вот еще что: в новом месте людей трудно узнать скоро, как ты ни будь умен, и потому я должна дать тебе несколько советов. Ты сразу напал на самых нужных нам людей.
— Я их всех разглядел.
— Смотри, — она стала загибать один по одному пальцы на левой руке, — генерал Синтянин предатель, но его опасаться особенно нечего; жена его — это женщина умная и характера стального; майор Форов — честность, и жена его тоже; но майора надо беречься; он бывает дурацки прям и болтлив; Лариса Висленева... я уже сказала, что если б я была мужчина, то я в нее бы только и влюбилась; затем Подозеров...
— Ну, это...
Горданов махнул рукой.
— Что это? — защурив глаза, передразнила его Бодростина. — Нет, это такое это, что мой тебе совет, приказ и просьба — им не манкировать.
— Да что им не манкировать? Это какой-то испанский дворянин дон Сезар де Базар.
— Да, да, ты верно его определяешь; но эти господа испанские дворяне самый опасный народ: у них есть дырявые плащи, в которых им все нипочем — ни холод, ни голод. А ты с ним, я знаю, непременно столкнешься, тем более, что он влюблен в Ларису.
— Да, я это заметил: она ему печеночку из супа выбирала; но не знаю я, что он у вас здесь значит, а у нас в университете его не любили и преблагополучно сорвали ему головенку.
— Все это ничего не значит, его и здесь не любят; но этот человек заковал себя крепкою броней... А Лара, ты говоришь, ему выбирала печеночку?
— Да, выбирала; но скажи, пожалуйста, что же он стал, что ли, хитр после житейских трепок?
— Нимало: он даже бестактен и неосторожен, но он ничем для себя не дорожит, а такие люди опасней всех. Помни это, и еще раз прощай... А ты тонок!
— В чем ты это видишь?
— Даже печеночки не просмотрел и по ней выследил!
— М-да! Теперь все дело в печенях сидит, а впрочем, я замечаю, что и тебя эта печенка интересует? Не разболися сердцем: это пред сражением не годится.
— О, да, да, как раз разболюся! — отвечала, рассмеявшись, Бодростина. — Нет, милый друг, я иду в дело, завещая тебе как Ларошжаклен: si j'avance, suivez moi; si je recule, tuez moi, si je meurs, vengez moi 1; хотя знаю, что последнего ты ни за что не исполнишь. Ну, наконец, прощай! зашла беседа наша за ночь. Если ты захочешь меня видеть, то ты будешь действовать так, как я говорю, и если будешь действовать так, то вот моя рука тебе, что Бодростин будет у тебя сам и будет всем хорошо, а тебе в особенности... Ну, прощай, до поры до времени. А что мой брат, Григорий?
1 Если я пойду вперед, следуйте за мной; если я отступлю, убейте меня; если я погибну, отомстите за меня (фр.).
— Служит.
— Я совсем и забыла про него спросить. Что он теперь: начальник отделения?
— Вице-директор.
— Вот как! Бодростина вздохнула.
— Вы видитесь с ним?
Горданов покачал отрицательно головой.
— Ну, наконец, совсем прощай, — торопливо сказала Бодростина и, взяв Горданова рукой за затылок, поцеловала его в лоб.
— Ты уж идешь, Глафира?
— А что?.. Пора... Да и тебе, как кажется, со мной вдвоем быть скучно... Мы люди деловые, все кончили, и время отдохнуть перед предстоящею работой.
Горданов протянул к ней свои руки, но она прыгнула, подбежала к двери, остановилась на минуту на дороге и исчезла, прошептав: «А провожать меня не нужно».
Чрез минуту внизу засвистел блок и щелкнула дверь, а когда Горданов снова подошел к окну, то мальчик в серой шляпе и черной шинели перешел уже через улицу и, зайдя за угол, обернулся, погрозил пальцем и скрылся.
— Что ж, так и быть, когда она будет богата, я на ней женюсь, — рассуждал, засыпая, Горданов, — а не то надо будет порешить на Ларисе... Конечно, здесь мало, но... все-таки за что-то зацеплюсь хоть на время. Глава одиннадцатая. Утро, которое хочет быть мудренее вечера.
После ночи, которою заключился вчерашний день встреч, свиданий, знакомств, переговоров и условий, утро встало неласковое, ветреное, суровое и изменчивое. Солнце, выглянувшее очень рано, вскоре же затем нырнуло за серую тучу, и то выскакивало на короткое время в прореху облаков, то снова завешивалось их темною завесой. Внизу было тихо, но вверху ветер быстро гнал бесконечную цепь тяжелых, слоистых облаков, набегавших одно на другое, сгущавшихся и плывших предвестниками большой тучи.
На земле парило и пахло электрическою сыростию, дышать было тяжело, нервными людьми овладело столь общее им предгрозовое беспокойство.
Иосаф Платонович Висленев спал, обливаясь потом, которого нимало не освежала струя воздуха, достигавшая до него в открытое окно.
Висленеву снились тяжелые сны с беспрестанными перерывами, как это часто бывает с людьми, уснувшими в сознании совершенной ими неловкости. Висленев во сне повернулся на другую сторону, лицом к окну: здесь было более воздуха и стало дышаться легче. Иосаф Платонович мало-помалу освобождался от своих снов и начал припоминать, что он в отеческом доме, но с этим вместе его кольнуло в сердце. «Что я здесь вчера делал?» — мелькнуло в его голове. «Где теперь этот ножик? Эта улика против меня. Надо встать и искать». Он раскрыл полусонные глаза и видит, что сновиденье ему не лжет: он действительно в родительском доме, лежит на кровати и пред ним знакомое, завешенное шторой окно. Он слышит шепот дрожащих древесных листьев и соображает, что солнце не блещет, что небо должно быть в тучах, и точно, вот штора приподнялась и отмахнулась, и видны ползущие по небу серые тучи и звонче слышен шепот шумящих деревьев, и вдруг среди всего этого в просвете рамы как будто блеснул на мгновение туманный контур какой-то эфирной фигуры, и по дорожному песку послышались легкие и частые шаги. Что бы это такое было? Во сне или наяву?
Висленев совсем пробудился, привстал на кровати, взглянул на окно и оторопел: его нож лежал на подоконнике.
Иосаф Платонович сорвался с кровати, быстро бросился к окну и высунулся наружу. Ни на террасе, ни на балконе никого не было, но ему показалось, что влево, в садовой калитке, в это мгновение мелькнул и исчез клочок светло-зеленого полосатого платья. Нет, Иосафу Платоновичу это не показалось: он это действительно видел сбоку, с той стороны, куда не глядел, и видел смутно, неясно, почти как во сне, потому что сон еще взаправду не успел и рассеяться.
Висленев отступил от окна и потер себе лоб.
«Скверно я начинаю дебютировать дома!» — подумал он и, оглянувшись на стол, взял с него портфель, осмотрел надрез и царапину и запер его в бюро.
Повернув ключ в замке, он прислушался: в зале кто-то тихо разговаривал шепотом.
«Сестра, значит, уж встала», — подумал Висленев и поглядел на часы. Было десять часов.
Иосаф Платонович тихо подкрался к двери, ведущей в зал, и прицелился глазом к замочной скважине.
Лариса в утреннем капоте сидела за чашкой чая, и пред нею стояла высокая женщина в коричневом ситцевом платье.
«В этом сестрином платье нет ничего похожего на то, которое мелькнуло в садовой калитке. Кто же это был? Кто нашел, поднял и положил ножик? Неужто ее превосходительство, Александра Ивановна... или кто-нибудь из прислуги? Вот это был бы тогда сюрприз, это очень вежливо и до подлости догадливо, но это прескверно на всякий случай... Мне просто одно спасение может быть в том, чтобы предоставить себя его великодушию... сказать ему все, открыть свое недоверие, покаяться, признаться... Вот, извольте видеть, проклятая судьба сама руками выдает меня этому человеку!.. Но надо же явиться, пора дать знать, что я проснулся».
Он сделал несколько шагов и остановился.
— Взглянуть в глаза сестре?.. ужасно!.. Но что же делать?.. Нужен кураж!.. Ну, напусти, Господи, смелость!
Он надел шлафрок и, отворив дверь в переднюю, крикнул:
— Лара, ты встала?
— Да; что тебе нужно, Joseph?
— О-о! голос нежен и ласков, — радостно заметил Висленев. — Нет, да ведь мало мудреного, что она и в самом деле, пожалуй, ничего и не поняла... Пришли, дружок, девушку дать мне умыться! — воскликнул он громко и, засвистав, смело зашлепал туфлями по полу.
В комнату его предстала двенадцатилетняя девочка с блестящим медным тазом и таким же кувшином и табуреткою.
Это была та самая девочка, которая ввела его вчера в сад. Она одета сегодня, как и вчера, в темном люстриновом платьице, с зеленым шерстяным фартуком.
«Есть зелень, да совсем не та», — подумал Висленев, засучивая рукава своей рубашки и приготовляясь умываться.
— Вас как зовут? — спросил он девочку.
— Меня-с? — переспросила она тоненьким голосом.
— Да-с, вас-с, — передразнил ее фистулой Висленев.
Девочка покраснела и отвечала, что ее зовут Малашей.
— Прекрасное имя! Вы им довольны или нет?
Девочка молчала.
— Довольны вы или нет, что вас зовут Малашей?
Опять молчание.
— Что же вы молчите? Не хотели бы вы, например, чтобы вас лучше звали Дуней или Сашей?
— Нет-с, не хочу-с.
— Отчего же вы не хотите? Стало быть, вам ваше имя нравится?
— Надо какое Бог дал-с.
— А-а! По-вашему, имена Бог дает; ну тогда это другое дело. А отец и мать у вас живы?
— Папенька в солдатах, а маменька здесь.
— Здесь в городе?
Девочка раскрыла большие, до сих пор полуопущенные глаза и отвечала не без удивления.
— Моя маменька здесь у нашей барышни в кухарках.
— У какой барышни?
— У Ларисы Платоновны.
— А-а, так вы вместе с маменькой?
— Вместе-с.
— Так это вам чудесно!
Девочка отмолчалась.
— И вам тоже моя сестра платит жалованье? — приставал к ней Висленев.
— Нет-с; барышня мне после будет платить, а теперь они маменьке платят, а меня только одевают.
— Вот что!.. И что же, много барышня нашила вам платьев?
Девочка сконфузилась, улыбнулась и, потупя глаза, отвечала:
— Много-с.
— Небось у вас, гляди, и розовое платье есть? — шутил Висленев.
— Есть-с и розовое.
— А? — переспросил Висленев, прерывая на минуту свое умыванье.
— Есть-с и розовое, голубое есть, — отвечала девочка, осмеливаясь с быстротой, свойственною ее возрасту.
— И белое есть?
— И белое тоже есть-с.
— А зеленое?
— Зеленого нету-с.
— Что же так? — это плохо. Зеленое непременно нужно. Вы себе из маменькиного по крайней мере перешейте, когда она поносит его.
— У маменьки настоящего зеленого тоже нет-с.
— Настоящего зеленого тоже нет! Скажите, пожалуйста. А ее не настоящее зеленое платье какое же?
— Оно больше как коричневое.
— Ну вот видите: какое же уж это зеленое! Нет, вам к лету надо настоящее зеленое, — как травка-муравка. Ну да погодите, — моргнул он, — я барышню попрошу, чтоб она вам свое подарила: у нее ведь уж наверное есть зеленое платье?
— У них есть-с.
«Ага! вот оно кто это был!» — подумал Висленев и, взяв из рук девочки полотенце, сухо спросил:
— А у барышни зеленое платье какое и с какою отделкой?
— Крепоновое-с, с такою же и с отделкой-с.
«Опять не то», — подумал Висленев и затем, довольно скоро одевшись и сияя свежестью лица и туалета, вышел в залу к сестре.
Иосаф Платонович, появись пред сестрой, старался иметь вид как можно более живой, веселый и беспечный.
— Я тебя перепугал немножко сегодня ночью, матушка-сестрица! — начал он, целуя руку Ларисы.
— Полно, пожалуйста, я уж про это забыла.
— Ты выспалась?
— О, как нельзя лучше! Я не люблю много спать. Вот чай и вот хлеб, — добавила она, подавая брату стакан и корзинку с печеньем.
— Постой!.. Но какой же ты разбойник, Лара! — отвечал, весело улыбаясь во все лицо и отступя шаг назад, Висленев.
— Что такое?
Лариса оглянулась.
— Как ты злодейски хороша!
— Ах, да перестань же наконец, Joseph!
— Да что же делать, когда я никак не привыкну?
Лариса засмеялась.
— Этот желтый цвет особенно идет к твоему лицу и волосам.
— Он идет ко всем брюнеткам.
— А кстати о цветах! — проговорил он и, оглянувшись, добавил полушепотом, — знаешь, какая преуморительная вещь: я, умываясь, разболтался с твоей маленькой камер-фрау.
— С Малашей? — Да, и она мне рассказала все свои платья.
— Да, я знаю, она большая кокетка.
— Что же, ведь это ничего: то есть я хочу сказать, что когда кокетство не выходит из границ, так это ничего. Я потому на этом и остановился, что предел не нарушен: знаешь, все это у нее так просто и имеет свой особенный букет — букет девичьей старого господского дома. Я должен тебе сознаться, я очень люблю эти старые патриархальные черты господской дворни... «зеленого, говорит, только нет у нее». Я ей сегодня подарю зеленое платье — ты позволишь?
— Сделай милость.
— Да, а то она и в виду его не имеет: «у барышни, говорит, есть одно крепоновое зеленое».
— Я и того никогда не ношу.
— Отчего же не носишь? Тебе зеленый цвет должен быть очень к лицу.
— Так не ношу.
— Почему же так? — шутил Иосаф Платонович. — Какая же ты странная с этими своими «таками». Никого не любит — «так», печенку кладет Подозерову — «так», зеленое платье сошьет и не носит — «так». А знаешь, нет действия без причины?
— Ах, Боже мой! еще и на это будто нужна причина? После этого я могу думать, что и ты имеешь особую причину допрашивать меня о зеленом платье?
— Конечно, конечно, есть и на это причина. Без причины ничего не делается.
— Ну, так мне мое зеленое платье не нравится.
— Ну, вот и причина! А вели мне его показать; пожалуйста.
— Вот фантазия!
— Ну, фантазия, — потешь мою фантазию. Ты так хороша, так безукоризненно хороша, все. что тобою сделано, все, что принадлежит тебе, так изящно, что я даже горжусь, принадлежа тебе в качестве брата. Малаша! — обратился он к девочке, проходившей в эту минуту чрез комнату, — принесите мне сюда барышнино зеленое платье.
— Ну, что за вздор, Joseph! — прошептала Лара.
— Ну, я тебя прошу.
— Принеси, — сказала Лариса остановившейся и ожидавшей ее приказания девочке.
Через минуту та явилась, высоко держа у себя над головой лиф, а через левую ее руку спускались целые волны легкого густо-зеленого крепона.
Висленев встал, взял платье, вывернул юбку и, притворно полюбовавшись свежими фестонами и уборками из той же материи, повторил несколько раз: «Прекрасное платье!» и отдал его назад.
Это опять было не то платье, которое ему было нужно.
— Я ужасно люблю со вкусом сделанные дамские наряды.' — заговорил он с сестрой. — В этом, как ты хочешь, сказывается вся женщина; и в этом, должно правду сказать, наш век сделал большие шаги вперед. Еще я помню, когда каждая наша барышня и барыня в своих манерах и в туалете старались как можно более походить на une dame de comptoir 1, а теперь наши женщины поражают вкусом; это значит вкус получает гражданство в России.
— В таком случае ты много у себя отнимаешь, не желая поторопиться видеть Бодростину.
— А что?
— Уж эта женщина, конечно, вся вкус, изящество и прелесть.
— Будто она нынче так хороша!
— А будто она когда-нибудь была нехороша?
— Ну, Бог с ней: сколько бы она ни была прелестна, я ее видеть не хочу.
— За что это? позволь тебя спросить, Joseph.
— У нас есть старые счеты.
— Но все равно, — отвечала, подумав минуту, Лариса. — Тебе видеться с ней ведь неизбежно, потому что, если она еще неделю не переедет в деревню, то, верно, сама ко мне заедет, а Михайло Андреевич такой нецеремонливый, что, может, даже и нарочно завернет к нам. Тогда, встретясь с ним здесь или у Синтяниных, ты должен будешь отдать визит, и в барышах будет только то, что старик выйдет любезнее тебя.
1 Продавщицу (фр.).
— Ну, хорошо... не сегодня же ведь непременно?
— Конечно, можно и не сегодня.
— А что же, наша генеральша дома?
— Да; несколько минут тому назад была дома: мы с ней чрез окно прощались.
— Как, прощались?
— Она уехала к себе на хутор.
— Чего и зачем?
— Зачем? хозяйничать. Она полжизни, там проводит и летом, и зимой.
— Что ж это за хутор? Дребедень какая-нибудь?
— Да; он не велик, но Alexandrine распоряжается им с толком и получает от него доходы.
— Вот видишь, а ты вчера говорила, что они бедны. И что же там дом есть у нее?
— Каютка в две крошечные комнатки: столовая и спальня ее с девочкой.
— С какою девочкой?
— А с падчерицей, с Верой, с дочерью покойной Флоры.
— Ах, помню, помню: это, кажется, уродец какой-то, идиотка, если я не ошибаюсь?
— Она глухонемая, но вовсе не урод и уж совсем не идиотка.
— Что же это мне что-то помнится, как будто что-то такое странное говорили про это дитя?
— Не знаю, что ты слышал: Вера очень милая девочка, но слабого здоровья.
— Нет; именно я помню, что... ее считали, как это говорят, испорченною, что ли?
— Какой вздор! Она очень нервна и у нее бывает что-то вроде ясновидения.
— Вот страсти!
— Никаких страстей, она прекрасное дитя, и ее волнения бывают с ней не часто, но вчера она чем-то разгорячилась и плакала до обморока, и потому Alexandrine сегодня увезла ее на хутор... Это всегда помогает Вере: она не любит быть с отцом...
— А мачеху любит?
— О, бесконечно! она предчувствует малейшую ее неприятность, малейшее ее нездоровье и... вообще она ее тень или больше: они две живут одною жизнию.
— Александра Ивановна добра к ней?
— Стоит ли об этом спрашивать? К кому же Alexandrine не добра?
— Ко мне.
— Оставь, Joseph, я этого не знаю.
— Ну, Бог с тобой!.. А как же это?.. — заговорил он, не зная что спросить. — Да!.. Зачем же они поехали в такую пору?
— А что?
— Да вон дождь-то так и висит.
— Ну, что же за беда, это ведь недалеко, и у них резвая лошадь.
— Да, впрочем, в крытом экипаже ничего.
— Они поехали не в крытом экипаже.
— А в чем они поехали?
— В сером платье-с, — отвечала, подавая новый стакан чаю, девочка Малаша.
— Ты можешь отвечать, когда тебя спрашивают, — остановила ее Лариса и сама добавила брату, — они поехали, как всегда ездят: в тюльбюри.
— Вдвоем, без кучера?
— Они всегда вдвоем ездят туда, без кучера, живут там без прислуги.
— Совсем без прислуги?
— Работница им делает, что нужно.
— Вот чем покончила Александра Ивановна: пустынножительством!
— Ей, кажется, еще далеко до конца. А впрочем, я еще скажу: я не люблю судить о ней ни вправо, ни налево.
— Да не судить, а рассуждать... И ты там у нее бываешь на хуторе?
— И я, и тетушка, и дядя, и отец Евангел, и Подозеров: все мы бываем.
— Что ж, хорошо там у нее?
— Н... н... ничего особенного: садик, прудок, мельница, осиновый лесок, ореховый кустарник, много скота, да небольшое поле островком, вот и все.
— Как же это поле «островком» ты сказала?
— То есть вокруг, в одной меже, это здесь называют «островком».
— Да-да; а я думал, что это в самом деле какой-нибудь остров Калипсо.
— Мы все шутя называем этот хутор «островом».
— Любви?
— Нет: «забвения».
— Кто ж это дал ему такую романическую кличку? Конечно, Александра Ивановна, которая нуждается в забвении?
— Нет, — отвечала, поморщась, Лара, — это название дано Верой.
— Глухонемой?
— Да.
— Как же она это сказала?
— Она написала.
— А-а! Кто же это здесь ее научил писать.
— Alexandrine и отец Евангел.
— Что это за отец Евангел? Я уже не раз про него слышу.
— Это их приходский священник, хуторной, прекрасный человек; он Сашин и дядин друг.
— Он почему же умеет учить глухонемых?
— Он все на свете понемножку умеет, и Веру выучил читать и писать по собственной методе.
— Какое это ужасное несчастие ничего не слыхать и не иметь возможности ничего выговорить!
— Да; но ничего не видать это еще хуже. Маленькая Вера сравнивает себя со слепыми и находит, что она счастлива.
— Правда, правда, слепота гораздо хуже.
— А дядя Форов находит, что боль в боку и удушье еще хуже.
— Действительно хуже! А она, эта бедная девочка, ни звука не слышит и не произносит?
— Когда здесь, в проезд государя, были маневры, она говорит, что слышала, как дрожали стекла от пушек, но произносить... я не слыхала ни звука, а тетушка говорит, что она один раз слышала, как Вера грубо крикнула одно слово... но Бог знает, было ли это слово или просто непонятный звук...
— Что же это был за звук?
— Н... н... не знаю: это было при особом каком-то обстоятельстве, до моего приезда, я об этом не расспрашивала, а тетя говорит, что...
— Да; неприятное что-нибудь, конечно, — сказал Висленев.
— Нет, не неприятное, а страшное.
— Страшное! В каком же роде?
— Я, право, не умею рассказать. Вера такая нежная и легкая, как будто неземная, а голос вышел будто какой-то бас. Тетя говорит, что точно будто из нее совсем другой человек, сильный, сильный мужчина закричал...
— И какое же это было слово?
— Тетя уверяет, что Вера крикнула: «прочь»!
— На кого же она так крикнула?
— На отца, за мачеху. Впрочем, повторяю тебе, это тетя знает, а я не знаю.
— А знаешь что: пока мой Горданов теперь еще спит, схожу-ка я самый первый визит сделаю, тетке, Катерине Астафьевне и Филетеру Ивановичу.
— Что ж, и прекрасно.
— Право! Кто что ни говори, а они родные и хорошие люди.
— Еще бы!
— Так, до свиданья, сестра, я пойду.
Лариса молча пожала брату руку, которую тот поцеловал, взял свою шляпу и трость и вышел.
Лариса посмотрела ему вслед в окно и ушла в свою комнату.
За час или за полтора до того, как Иосаф Платонович убирался и разговаривал с сестрой у себя в доме, на перемычке пред небольшою речкой, которою замыкалась пустынная улица загородной солдатской слободы, над самым бродом остановилось довольно простое тюльбюри Синтяниной, запряженное рослою вороною лошадью. Александра Ивановна правила, держа вожжи в руках, обтянутых шведскими перчатками, а в ногах у нее, вся свернувшись в комочек и положив ей голову на колени, лежала, закрывшись пестрым шотландским пледом, Вера. Снаружи из-под пледа виднелась только одна ее маленькая, длинная и бледная ручка, на которой выше кисти была обмотана черная резиновая тесьма широкополой соломенной бержерки.
Александра Ивановна, выезжая из города, бросила взгляд налево, на последний домик над речкой, и, увидав в одно из его окон полуседую голову Катерины Астафьевны, ласково кивнула ей и, подъехав к самой реке, остановила лошадь.
Майорша Форова была совсем одета, даже в шляпке и с зонтиком в руке, и во всем этом наряде тотчас же вышла из калитки и подошла к Синтяниной.
— Здравствуй, голубушка Саша! — сказала она, поставив ногу на ступеньку тюльбюри, и пожала руку Синтяниной. — А я не думала, что ты поедешь нынче на хутор.
— Вера нездорова, — отвечала мягко Синтянина. — А ты куда рано, Катя?
— Я к ранней обедне, хочется помолиться, — отвечала Форова, прислоняясь к щитку тюльбюри. — Что с Верой такое?
— Не говори, пожалуйста! — отвечала Синтянина, бросив взгляд на закрытую головку Веры.
Форова легонько приподняла закрывавший лицо ребенка угол пледа и тихо шепнула: «она спит?»
— Как села, так опустилась в ноги и заснула.
— И как она сегодня необыкновенно бледна!
— Да; она всю ночь не спала ни минуты.
— Отчего? — шепнула Форова.
— Что ты шепчешь? Она ведь не слышит.
— И как это странно и страшно, что она спит и все смотрит глазами, — проговорила Катерина Астафьевна, и с этим словом бережно и тихо покрыла пледом бледное до синевы лицо девушки, откинувшей головку с полуоткрытыми глазами на служащее ей изголовьем колено мачехи.
— Несчастное дитя! — заключила Форова, вздохнув и перекрестив ее. — Она рукой так и держится за твое платье.
— Я не могу себе простить, что я вчера ее оставляла одну. Я думала, что она спит днем, а она не спала, ходила пред вечером к отцу, пока мы сидели в саду, и ночью... представь ты... опять было то, что тогда...
— Да?
— Я только вернулась, легла и... ты понимаешь? я все же вчера была немножко тревожна...
— Да, да, понимаю, понимаю.
— Я лежу и никак не засну, все Бог знает что идет в голову, как вдруг она, не касаясь ногами пола, влетает в мою спальню: вся бледная, вся в белом, глаза горят, в обеих руках по зажженной свече из канделябра, бросилась к окну, открыла занавеску и вдруг... Какие звуки! Какие тягостные звуки, Катя! Так, знаешь: «а-а-а-а!» — как будто она хочет кого-то удержать над самою пропастью, и вдруг... смотрю, уж свечи на полу, и, когда я нагнулась, чтобы поднять их, потому что она не обращала на них внимания, кажется, я слышала слово...
Форова промолчала.
— Мне показалось, что как будто пронзительно раздалось: «кровь!»
— Господи помилуй! — произнесла, отодвигаясь, Форова и перекрестилась.
— Какое странное дитя!
— И я тебе скажу, я не нервна, но очень испугалась.
— Еще бы! Это кого хочешь встревожит.
— Я взяла ее сзади и посадила ее в кресла. Она была холодная как лед, или лучше тебе сказать, что ее совсем не было, только это бедное, больное сердце ее так билось, что на груди как мышонок ворочался под блузой, а дыханья нет.
— Бедняжка! какая тяжкая ее жизнь!
— Нет, ты дослушай же, Катя.
— Знаешь, меня всегда от этих вещей немножко коробит.
— Нет, это вовсе не страшно. Она вдруг схватила карандаш...
— И написала «кто я?» Не говори мне, я дрожу, когда она об атом спрашивает.
— А вот представь, совсем не то: она взяла карандаш и написала: «змей с трещоткой».
— Что это значит?
Синтянина пожала плечами.
— А где же кровь?
— Я ее об этом спросила.
— Ну и что же?
— Она показала рукой вокруг и остановила на висленевском флигеле. Конечно, все это вздор...
— Почем нам это знать, что это вздор, Сашура?
— О, полно, Катя! Что же может угрожать им? Нет, все это вздор, пустяки; но Вера была так тревожна, как никогда, и я все это тебе к тому рассказываю, чтобы ты не отнесла моего бегства к чему-нибудь другому, — договорила, слегка краснея, Синтянина.
— Ну да, поди-ка ты, стану я относить.
— Не станешь?
— Да, разумеется, не стану. Легко ли добро: есть от кого бежать.
Синтянина вздохнула.
— А ты знаешь, Катя, — молвила она, — что порочных детей более жаль, чем тех, которые нас не огорчают.
— Э, полно, пожалуйста, — отвечала Форова, энергически поправляя рукой свои седые волосы, выбившиеся у нее из-под шляпки. — Я теперь на много лет совсем спокойна за всех хороших женщин в мире: теперь, кроме дуры, ни с кем ничего не случится. Увлекаться уж некем и нечем.
— Но, ах! смотри! — воскликнула она, взглянув на девочку.
Вера во сне отмахнула с головы плед и, не просыпаясь, глядела полуоткрытыми глазами в лицо Синтяниной.
— Как страшно, — сказала Форова, —она точно следит за тобой и во сне и наяву. Прощай, Господь с тобой.
— Ты навестишь меня?
— Да, непременно.
— Мне надо кое-что тебе сказать.
— Скажи сейчас.
— Нет, это долго.
— А что такое? У тебя есть опасения?
— Да, но теперь прощай.
С этими словами Синтянина пустила лошадь вброд и уехала.
Висленев вышел со двора, раскрыл щегольской шелковый зонт, но, сделав несколько шагов по улице, тотчас же закрыл его и пошел быстрым ходом. Дождя еще не было; город Висленев знал прекрасно и очень скоро дошел по разным уличкам и переулкам до маленького, низенького домика в три окошечка. Это был опять тот же самый домик, пред которым за час пред этим Синтянина разговаривала с Форовой.
Висленев поглядел чрез окно внутрь домика и, никого не увидав тут, отворил калитку и вошел на двор. На него сипло залаяла старая черная собака, но тотчас же зевнула и пошла под крыльцо.
Из-под сарая вылетела стая кур, которых посреди двора поджидал голенастый красный петух, и вслед за тем оттуда же вышла бойкая рябая, востроносая баба с ребенком под одною рукой и двумя курицами — под другою.
— Милая, Филетер Иваныч дома? — осведомился Висленев.
— Ах, нету-ти их, нету-ти, ушедши они со двора, — отвечала с сожалением баба.
— А Катерина Астафьевна?
— Катерина Астафьевна были в саду, да нешто не ушли ли... Ступайте в сад.
— А ваша собака меня не укусит?
— Собака, нет; она не кусается, не поважена. Вот корова буренка... Тпружи, тпружи, дура! тпружи! — закричала баба, махая дитятей и курами.
Висленев вдруг почувствовал сзади у своего затылка нежное теплое дыхание, и в то же мгновение шляпа его слетела с головы вместе с несколькими вырванными из затылка волосами.
Иосаф Платонович вскрикнул и прыгнул вперед, а баба, бросив на землю кур и ребенка, быстро кинулась защищать гостя от коровы, которая спокойно жевала и трясла его соломенную шляпу.
Несколько ударов, которые женщина нанесла корове по губам, было достаточно, чтобы та освободила висленевскую шляпу, но, конечно, жестоко помятую и без куска полей.
— Это все барин, Филетер Иваныч, у нас таких глупостьев ее научили, — заговорила баба, подавая Висленеву его испорченную шляпу.
— Но она, однако, может быть, еще и бодается? — осведомился Висленев, прячась за бабу от коровы, которая опять подходила к ним, пережевывая во рту кусок шляпы и медленно помахивая головой с тупыми круглыми глазами.
— Нет, идите; бодаться она редко бодается... разве только кто ей не понравится, — успокоивала баба, стремясь опять изловить кур и взять кричащее дитя.
— Ну, однако же, покорно вас благодарю. Я вовсе не желаю испытывать, понравился я ей или не понравился; а вы лучше проведите меня до саду.
Баба согласилась, и Висленев, под ее прикрытием, пошел скорыми шагами вперед, держась рукой за холщовый, вышитый красною бумагой передник своей провожатой.
Переступив за порог утлой ограды, он запер за собой на задвижку калитку и рассмеялся.
— Скажите, пожалуйста, вот вам и провинциальная простота жизни! А тут, чтобы жить, надо еще и коровам нравиться! Ну, краек! ну, сторонушка!
Он снял свою изуродованную шляпу, оглядел ее и, надев прорехой на затылок, пошел по узенькой, не пробитой, а протоптанной тропинке в глубь небольшого, так сказать, однодворческого сада. Кругом растут, как попало, жимолости, малина, крыжовник, корявая яблонька и в конце куст густой черемухи; но живой души человеческой нет.
Иосаф Платонович даже плюнул: очевидно, баба соврала; очевидно, Катерины Астафьевны здесь нет, а между тем идти назад... там корова и собака... Но в это самое мгновение Висленев дошел до черемухи и отодвинулся назад и покраснел. В пяти шагах от него, под наклонившеюся до земли веткой, копошился ворох зеленой полосатой материи, и одна рука ею обтянутая взрывала ножиком землю.
«Так вот это кто: это была тетушка!.. Ну, слава Богу! Испугаю же ее за то, что она меня напугала».
И с этим Висленев тихо, на цыпочках подкрался к кусту и, разведя свои руки в разные стороны, кольнул сидящую фигуру под бока пальцами, и вслед за тем раздались два разные восклика отчаянного перепуга.
Висленев очутился лицом к лицу с белокурым, средних лет мужчиной, одетым в вышесказанную полосатую материю, с изрядною окладистою бородой и светло-голубыми глазами.
— Что же это такое? — проговорил, наконец, Висленев.
— А уж об этом мне бы вас надлежало спросить, — отвечал собеседник.
— Я думал, что вы тетушка.
— Между тем, я своим племянникам дядя.
— Но позвольте, как же это так?
— А уж это опять мне вас позвольте спросить: как вы это так? Я червей копал, потому что мы с Филетером Иванычем собираемся рыбу удить, а вы меня под ребра, и испугали. Я Евангел Минервин, священник и майора Форова приятель.
Висленев хотел извиниться, но вместо того не удержался и расхохотался.
— Вот как у нас! — проговорил Евангел, глядя с улыбкой, как заливается Висленев. — Чего же это вы так ослабели?
— Да, позвольте!.. — начал было Висленев и опять расхохотался.
— Вона! Ну смешливы же вы!
— Вы, отец Евангел, не говорите, пожалуйста... Я вас принял за тетушку, Катерину Астафьевну...
— Для чего так? я на нее не похож!
— Ну, вот подите же! я хотел с ней пошутить...
— Ну и что же: это ничего.
— Это меня ваш подрясник ввел в заблуждение: мне показалось, что это тетушкино платье.
— А у нее разве есть такое платье?
— Кажется... то есть я думаю...
— Нет; у вашей тетушки такового платья нет.
— А вы разве знаете?
— Разумеется, знаю: у нее серое летнее, коричневое и черное, что из голубого перекрашено, а белое, которое в прошлом году вместе с моею женой к причастью шила, так она его не носит. Да вы ничего: не смущайтесь, что пошутили, — вот если бы вы меня прибили, надо бы смущаться, а то... да что же это у вас у самих-то чепец помят?
— Представьте, это корова...
— А, а! буренка! она один раз пьяному казаку весь хохол на кичке съела, а животина добрая... питает. Вы из Питера?
— Да, из Питера.
— Ученый?
— Ну, не очень...
Висленев рассмеялся.
— Что так? Там будто как все ученые. К литературе привержены?
— Да, я писал.
— Статьи или изящные произведения?
— Статьи. А вы с дядюшкой много читаете?
— Одолеваем-таки. Изящную литературу люблю, но только писателей изящных мало встречаю. Поворот назад чувствую.
— Как поворот назад?
— А как же-с: разве вы его не усматриваете? Помните, в комедии господина Львова было сказано, что «прежде все сочиняли, а теперь-де описывают», а уж ныне опять все сочиняют: людей таких вовсе не видим, про каких пишут... А вот и отец Филетер идет.
В это время на тропинке показался майор Форов. Он был в старом, грязном-прегрязном драповом халате, подпоясанном засаленными шнурами; за пазухой у него был завязан ребенок, в левой руке трубка, а в правой книга, которую он читал в то самое время, как дитя всячески старалось ее у него вырвать.
— Чье ж это у него дитя? — полюбопытствовал Висленев.
— А это солдатское... работницы Авдотьи. Ее, верно, куда-нибудь послали; впрочем, ведь Филетер Иваныч детей страшно любят. Перестань читать, Филетер: вот тебя гость ждет.
Форов взглянул, перехватил в одну руку книгу и трубку, а другую протянул Висленеву.
— Торочку вы не видали? — спросил он.
— Нет, не видал.
— А она к вам пошла. Вы по какой улице шли: по Покровской или по Рождественской?
— По Рождественской.
— Ну, значит, просмотрели.
— А она в чем: в каком платье?
— А уж я ее платьев не знаю. А журналов новых, отец Евангел, нет: был у Бодростиной, был и у Подозерова, а ничего не добыл. Захватил книжонку Диккенса «Из семейного круга».
— Что ж, перечитаем: там «Габриэль и Роза» хороши.
— А теперь пойдем закусить, да и в дорогу. Вы любите закусывать? — отнесся он к Висленеву.
— Не особенно, а впрочем, с вами очень рад.
— А вам разве не все равно, с кем есть?
— Ну, не все равно. Да что же вы не спросите, кто мне шляпу обработал?
— А что же мне в этом за интерес? Известно, что если у кого ризы обветшали, так значит ремонентов нет.
— Чего ремонентов! это ваша корова!
— Ну и что ж? Плохого князя и телята лижут.
— Вы, Филетер Иваныч, чудак.
— Ну вот и чудак! Я чудак да не красен, а вы не чудак да спламенели не знай чего. Пойдемте-ка лучше закусывать.
— Только вина, извините, у меня нет, — объяснил Форов, подводя гостей к не покрытому скатертью столу, на котором стоял горшок с вареным картофелем, студень на поливеном блюде и водочный графинчик.
— Да у тебя и в баклажке-то оскудение израилево, — заметил Евангел, поднимая пустой графин.
— Что ж, нарядим сейчас послание к евреям, — отвечал Форов, вручая работнице графин и деньги.
— А я ведь совсем водки не пью, — сказал Висленев. — Вы не обидетесь?
— Чем это?.. Я издавна солист и аккомпанемента не ожидаю, один пью.
— Отец Евангел разве тоже не пьет?
— Не пью-с, — отвечал отец Евангел, разбирая у себя на ладони рассыпчатую картофелину.
— Мы пошлем за вином, Филетер Иваныч, если вы позволите?
— А сделайте милость, хоть за шампанским.
— Только если вы меня считаете, то я ведь и вина никакого не пью, — отвечал отец Евангел.
— Будто никакого?
— Вина решительно никакого.
— Ну рюмку хересу.
— Ну, так и быть: для вас рюмку хересу выпью.
Работница побежала, сдав опять своего ребенка Филетеру Ивановичу, и через несколько минут доставила вино и водку. Форов выпил водки и начал ходить по комнате.
— А что же вы, Филетер Иваныч, не закусываете? — заговорил Висленев.
— Истинные таланты не закусывают, — отвечал, не глядя на него, Форов.
Висленеву показалось, что майор с ним почему-то сух. Он ему это заметил, на что тот сейчас же отвечал:
— Я, сознаюсь вам, смущен, что это вы за птицу привезли, этого господина Горданова?
— А что такое?
— Да он мне не нравится.
— С каких это пор? Вы, кажется, с ним вчера соглашались?
— Да мало ли что соглашался? С иным и соглашаешься, да не любишь, а с другим и не согласен, да ладишь.
— Так вы вот какой: вы единомышленников, значит, немного цените?
— Да вы к чему мне это говорите? Мыслит всяк для себя.
— А партия?
— Партия? Так это значит я ее крепостной, что ли, что я ради партии должен подлеца в честь ставить?.. А чтоб она этого не дожидалась, сия партия!
— А Горданов прекрасный и очень умный человек.
— Не знаю-с, — отвечал майор. — Знаю только, что он целый вечер точно бурлацкую песню тянул «а-о-е», а живого слова не выберешь.
— Он говорил резонно.
— Да что же резонно, все его резоны, это, я говорю, все равно, что дождь на море, ничего не прибавляют. Интересно бы знать его дела и дела... Слышишь, отец Евангел, этот Горданов мужичонкам землишку подарил, да теперь выдурить ее у них на обмен хочет.
— Т-е-е-с! — сделал укоризненно, покачав головою, отец Евангел, у которого рот был изобильно наполнен горячим картофелем.
— Да это кто же вам сказал, что таковы гордановские намерения?
— Да ведь вы же Подозерову об этом говорили. И вы сами еще, милостивый государь, за такое дело взялись?.. Нехорошо!..
— Врет ваш Подозеров.
— Что-о? Подозеров врет? Ну это, во-первых, в первый раз слышу, а во-вторых, Подозеров мне и не говорил ничего.
— Подозеров сам-то очень хорош.
— Человек рабочий и честный, хотя идеалист.
— Очень честный, но никогда ни на что честное и в университете не умел откликнуться.
— А на что откликаться-то в университете, когда там надо учиться?
— Мало ли на что там в наше время приходилось откликаться! А ему какое дело, бывало, ни представь, все разрезонирует и выведет, что в нем содержания нет.
— Да ведь какое же, в самом деле, содержание можно найти в деле о бревне, упавшем и никого не убившем?
— Ну, я вижу, вы совсем подозеровский партизан здесь!
— Напротив, я совсем других убеждений, чем Подозеров...
— А не пора ли нам с тобой, друже Филетер, и в ход, — прервал отец Евангел.
— Идем, — отвечал Форов и накинул на себя вместо халата парусинный балахон, забрал на плечи торбу, в карман книгу и протянул Висленеву руку.
— Куда вы? — спросил Иосаф Платонович.
— Туда, к Аленину верху.
— Где это, далеко?
— А верст с десяток отсюда, вот где горы-то видны между Бодростинкой и Синтянинским хутором.
— Что ж вы там будете делать?
— В озере карасей половим, с росой трав порвем, а в солнцепек читать будем, в лесу на прохладе.
— Возьмите меня с собой.
Отец Евангел промолчал, а Форов сказал:
— Что ж, нам все равно.
— Так я иду.
— Идемте.
— А гроза вас не пугает?
— Нас— нет, потому что мы каждый с своей точки зрения жизнью не дорожим, а вот вы-то, пожалуй, лучше останьтесь.
— А что?
— Да гроза непременно будет, а кто считает свое существование драгоценным, тому жутко на поле, как облака заспорят с землей. Вы не поддавайтесь лучше этой гили, что говорят, будто стыдно грозы трусить. Что за стыд бояться того, с кем сладу нет!
— Нет, я хочу побродить с вами и посмотреть, как вы ловите карасей, как сбираете травы и пр., и пр. Одним словом, мне хочется побыть с вами.
— Так идем.
Они встали и пошли.
Выйдя на улицу, Форов и отец Евангел тотчас сели на землю, сняли обувь, связали на веревочку, перекинули себе через плеча и, закатав вверх панталоны, пошли вброд через мелкую речку. Висленев этого не сделал: он не стал разуваться и сказал, что босой идти не может; он вошел в реку прямо в обуви и сильно измочился.
Форов вытащил из кармана книжку Диккенса и зачитал рассказ о Габриэле и Розе. Шли они, шли, и Висленеву показалось, что они уже Бог знает как далеко ушли, а было всего семь верст.
— Я устал, господа, — сказал Висленев.
— Что ж, сядем, отдохнем, — отвечал Евангел. И они сели.
— Скажите, неужели вы всегда и дорогой читаете? — спросил Висленев.
— Ну, это как придется, — отвечал Форов.
— И всегда повести?
— По большей части.
— И не надоели они вам?
— Отчего же? Самая глупая повесть все-таки интереснее, чем трактат о бревне, упавшем и никого не убившем.
— Ну так вот же я вам подарок припас: это уж не о бревне, упавшем и никого не убившем, а о бревне, упавшем и убившем свободу.
И с этим Висленев вынул из кармана пальто и преподнес Форову книжку из числа изданных за границей и в которой трактовалась сущность христианства по Фейербаху.
— Благодарю вас, — отвечал майор, — но я, впрочем, этого барона фон Фейербаха не уважаю.
— А вы его разве читали?
— Нечего у него читать-то, вот горе.
— Он разбирает сущность христианства.
— Знаю-с, и очень люблю эти критики, только не его, не господина Фейербаха с последователями.
— Они это очень грубо делают, — поддержал отец Евангел. — Есть на это мастера гораздо тоньше — филигранью чеканят.
— Да, разумеется, Ренан, например, я это знаю.
— Нет; да Ренан о духе мало и касается, он все по критике событий; но и Ренан-то в своих положениях тоже не ахти-мне; он шаток против, например, богословов современной тюбингенской школы. Вы как находите?
— Я, признаться сказать, всех этих господ не читал.
— А-а, не читали, жаль! Ну да это примером можно объяснить будет, хоть и в противном роде, вот как, например, Иоанн Златоуст против Василия Великого, Массильон супротив Боссюэта, или Иннокентий против Филарета Московского.
— Ничего не понимаю.
— Одни увлекательней и легче, как Златоуст, Массильон и Иннокентий, а другие тверже и опористей, как Василий Великий, Боссюэт и Филарет. Ренан ведь очень легок, а вы если критикой духа интересуетесь, так Ламенне извольте прочитать. Этот гораздо позабористей.
«Черт их знает, сколько они нынче здесь, по трущобам-то сидя, поначитались!» — подумал Висленев и добавил вслух:
— Да, может быть. Я мало этих вещей читал, да на что их? Это роскошь знания, а нужна польза. Я ведь только со стороны критики сущности христианства согласен с Фейербахом, а то я, разумеется, и его не знаю.
— Да вы с критикой согласны? Ну а ее-то у него и нет. Какая же критика при односторонности взгляда? Это в некоторых теперешних светских журналах ведется подобная критика, так ведь guod licet bovi, non licet Jovi, что приличествует быку, то не приличествует Юпитеру. Нет, вы Ламенне почитайте. Он хоть нашего брата пробирает, христианство, а он лучше, последовательней Фейербаха понимает. Христианство — это-с ведь дело слишком серьезное и великое: его не повалить.
— Оно даже хлебом кормит, — вмешался Форов.
— Нет, оно больше делает, Филетер Иваныч, ты это глупо говоришь, — отвечал Евангел.
— А мне кажется, он, напротив, прекрасно сказал, и позвольте мне на этом с ним покончить, — сказал Висленев. — Хлеб, как все земное, мне ближе и понятнее, чем все небесные блага. А как же это кормит христианство хлебом?
— Да вот как. Во многих местах десятки тысяч людей, которые непременно должны умереть в силу обстоятельств с голоду, всякий день сыты. Петербург кормит таких двадцать тысяч и все «по сущности христианства». А уберите вы эту «сущность» на три дня из этой сторонушки, вот вам и голодная смерть, а ваши философы этого не видали и не разъяснили.
— Дела милосердия ведь возможны и без христианства.
— Возможны, да... не всяк на них тронется из тех, кто нынче трогается.
— Да, со Христом-то это легче, — поддержал Евангел.
— А то «жестокие еще, сударь, нравы в нашем городе», — добавил Форов.
— А со Христом жестокое-то делать трудней, — опять подкрепил Евангел.
— Скажите же, зачем вы живете в такой стране, где по-вашему все так глупо, где все добрые дела творятся силой иллюзий и страхов?
— А где же мне жить?
— Где угодно!
— Да мне здесь угодно, я здесь органические связи имею.
— Например?
— Например, пенсион получаю.
— И только?
— Н-н-ну... и не только... Я мужиков люблю, солдат люблю!
— Что же вам в них нравится?
— Прекрасные люди.
— А неужто же цивилизованный иностранец хуже русского невежды?
— Нет; а иностранный невежда хуже.
— А я, каюсь вам, не люблю России.
— Для какой причины? — спросил Евангел.
— Да что вы в самом деле в ней видите хорошего? Ни природы, ни людей. Где лавр да мирт, а здесь квас да спирт, вот вам и Россия.
Отец Евангел промолчал, нарвал горсть синей озими и стал ею обтирать свои запачканные ноги.
— Ну, природа, — заговорил он, — природа наша здоровая. Оглянитесь хоть вокруг себя, неужто ничего здесь не видите достойного благодарения?
— А что же я вижу? Вижу будущий квас и спирт, и будущее сено!
Евангел опять замолчал и наконец встал, бросил от себя траву и, стоя среди поля с подоткнутым за пояс подрясником, начал говорить спокойным и тихим голосом.
— Сено и спирт! А вот у самых ваших ног растет здесь благовонный девясил, он утоляет боли груди; подальше два шага от вас, я вижу огневой жабник, который лечит черную немочь; вон там на камнях растет верхоцветный исоп, от удушья; вон ароматная марь, против нервов; рвотный копытень; сон-трава от прострела; кустистый дрок; крепящая расслабленных алиела; вон болдырян, от детского родилища и мадрагары, от которых спят убитые тоской и страданием. Теперь, там, на поле, я вижу траву гулявицу от судорог; на холмике вон Божье деревцо; вон львиноуст от трепетанья сердца; дягиль, лютик, целебная и смрадная трава омег; вон курослеп, от укушения бешеным животным; а там по потовинам луга растет ручейный гравилат от кровотока; авран и многолетний крин, восстановляющий бессилие; медвежье ухо от перхоты; хрупкая ива, в которой купают золотушных детей; кувшинчик, кукушкин лен, козлобород... Не сено здесь, мой государь, а Божья аптека.
И с этим отец Евангел вдруг оборотился к Висленеву спиной, прилег, свернулся калачиком и в одно мгновение уснул, рядом со спящим уже и храпящим майором. Точно порешили оба насчет Иосафа Платоновича, что с ним больше говорить не о чем.
Висленев такой выходки никак не ожидал, потому что он не видал никакой причины укладываться теперь и спать, и не чувствовал ни малейшего позыва ко сну; но помешать Форову и отцу Евангелу, когда они уж уснули, он, разумеется, не захотел, и решил побродить немножко по кустарникам. Походил, нашел две ягоды земляники и съел их, и опять вернулся на опушку, а Форов и Евангел по-прежнему спят. Висленеву стало скучно, он бы пошел и домой, но кругом тучится и погромыхивает гром, которого он не любит. Делать нечего, он снял пиджак, свернул его, подложил под голову и лег рядом с крепко спящим Форовым, сорвал былинку и, покусывая ее, начал мечтать. Мечты его были невыспренни, они витали все около его портфеля, около его трудных дел, около Петербурга, где у Висленева осталась нелюбимая жена и никакого положения, и наконец около того, как он появится Горданову и как расскажет ему историю с портфелем.
«Чем я позже ему это сообщу, тем лучше, — думал он, — чего же мне и спешить? Я с этим и ушел сюда, чтобы затянуть время. Пусть там после Горданов потрунит над моими увлечениями, а между тем время большой изобретатель. Подчинюсь моей судьбе и буду спать, как они спят».
Висленев оборотился лицом к Форову и закрыл глаза на все.
Долго ли он спал, он не помнил, но проснулся он вдруг от страшного шума и проницающей прохлады. Небо было черно, в воздухе рокотал гром и падали крупные капли дождя. Висленев увидал в этом достаточный повод поднять своих спутников и разбудил отца Евангела. Дождь усиливался быстро и вдруг пустился как из ведра, прежде чем Форов проснулся.
— Побежимте куда-нибудь? — упрашивал, метаясь на месте, Висленев.
— Да куда же бежать-с? Кругом поле, ни кола, ни двора, в город назад семь верст, до Бодростинки четыре, а влево не больше двух верст до Синтянина хутора, да ведь все равно и туда теперь не добежишь. Видите, какой полил. Ух, за рубашку потекло!
Отец Евангел стал на корточки, нагнул голову и выставил спину.
— Я говорил, что это будет, — проворчал Форов и тоже стал на колени точно так же, как и Евангел.
Среди ливня, обратившего весь воздух вокруг в сплошное мутное море, реяли молнии и грохотал, не прерывая, гром, и вот, весь мокрый и опустившийся, Висленев видит, что среди этих волн, погоняемых ветром, аршина два от земли плывет бледно-огненный шар, колеблется, растет, переменяет цвета, становится из бледного багровым, фиолетовым, и вдруг сверкнуло и вздрогнуло, и шара уж нет, но зато на дороге что-то взвилось, затрещало и повалилось.
Форов и Евангел подняли головы.
В трех шагах пред ними, в море волн, стоял двухместный фаэтон, запряженный четверней лошадей, из которых одна, оторвавши повод, стояла головой к заднему колесу и в страхе дрожала.
— Помогите, пожалуйста, — кричал из фаэтона человек с большими кудрями a la Beranger 1.
— Это Михаил Андреич, — проговорил, направляясь к экипажу, отец Евангел.
— Кто?— осведомился Висленев, идучи вслед за ним вместе с Форовым.
— Бодростин.
В фаэтоне сидел белый, чистый, очень красивый старик Бодростин и возле него молодой кавалерист с несколько надменным и улыбающимся лицом.
— А, это вы, странники вечные! — заговорил, высовываясь из экипажа, Бодростин, в то время как кучер с отцом Евангелом выпутывали и выпрягали лошадь, тщетно норовившую подняться. — А это кто ж с вами еще! — любопытствовал Бодростин.
— А это приезжий к нам с севера, Висленев, — ответствовал майор Форов.
— Ах это ты, Есафушка! Здорово, дружок! Вот рад, да говорить-то некогда... Ты что ж, куда идешь?
— Пошел с ними, и сам не знаю, чего и куда, — отозвался Висленев.
— Да кинь ты их, бродяг, и поедем в город. Вот видишь, как ты измок, как кулик.
— Уж просто ни один Язон в Колхиде не знавал такого душа!
— Ну и садись. Володя, подвигайся, брат! Возьмем сего Язона, — добавил он, отстраня кавалериста. — Это мой племянник, сестры Агаты сын, Кюлевейн. Ну я беру у вас господина этого городского воробья! — добавил он, втягивая Висленева за руку к себе в экипаж, — он вам не к перу и не к шерсти.
— С Богом, — ответил Евангел.
Бодростин кивнул своею беранжеровскою головой, и фаэтон опять понесся над морем дождя и сетью реющих молний.
1 Под Беранже (фр.).
Висленев дрожал от холоду и сырости и жался, совестясь мочить своим смокшимся платьем соседей.
— Я просто мокр, как губка, и совсем никуда не гожусь, — говорил он, стараясь скрыть свое замешательство.
— Ну вздор, ничего, хороший молодец из воды должен сух выходить. Вот приедем к жене, она задаст тебе такого эрфиксу, что ты высохнешь и зарок дашь с приезда по полям не разгуливать, прежде чем друзей навестишь.
— А нет! Бога ради! Я не могу показаться Глафире Васильевне.
— Что тако-о-о-е? Не можешь показаться моей жене? Полно, пожалуйста, дурить-то.
— Я, право, Михаил Андреевич, не дурю, а не могу же я в таком печальном виде являться к Глафире Васильевне, — отпрашивался Висленев.
— Все это чистый вздор, облечем тебя в сухое белье и теплый халат, а тем временем тебе и другое платье принесут.
— Нет, воля ваша, я у своего дома сойду, переоденусь дома и приеду.
— Ну да, рассказывай, придешь ты, как же! Нет уж, брат, надо было ко мне сюда не садиться, а уж как сел, так привезу, куда захочу. У нас на Руси на то и пословица есть: «на чьем возу едешь, того и песенку пой».
Отменить этого не предвиделось никакой возможности: Бодростин неотразимо исполнял непостижимый и роковой закон, по которому мужья столь часто употребляют самые упорные усилия вводить к себе в дом людей, которых бы лучше им век не подпускать к своему порогу.
— Сей молодец яко старец, — проговорил Евангел, садясь с майором снова под межку.
— Межеумок, — отвечал нехотя Форов, и более они о Висленевене говорили.
Под третьим кровом утро это началось еще иначе.
Глафира Васильевна Бодростина возвратилась домой с небольшим через четверть часа после того, как она вышла от Горданова. Она сама отперла бывшим у нее ключом небольшую дверь в оранжерею и через нее прошла по довольно крутой спиральной лестнице на второй этаж, в чистую комнату, где чуть теплилась лампада под низким абажуром и дремала в кресле молодая, красивая девушка в ситцевом платье.
Бодростина заперла за собой дверь и, тронув девушку слегка за плечо, бросила ей шинель и шляпу, а сама прошла три изящно убранные комнаты своей половины и остановилась, наконец, в кабинете, оклеенном темно-зелеными обоями и убранном с большим вкусом темно-зеленым бархатом и позолотой.
Девушка вошла вслед за нею и сказала:
— Вам есть письмо!
— Откуда так поздно?
— Швейцар мне прислал его, как только вы изволили уйти. Я сказала, что вы уже изволили започивать.
— На, — отвечала Бодростина, бросая на руки девушке свою бархатную куртку и жилет, — сними с меня сапоги и подай мне письмо, — добавила она, полуулегшись на диван, глубоко уходящий в нишу окна.
Девушка вышла и через минуту явилась с розовыми атласными туфлями и с серебряным подносом, на котором лежал большой конверт.
Глафира Васильевна взяла письмо, взглянула на адрес и покраснела.
«А-а! Наконец-то!» — шепнула она себе. Девушка разула ее и надела на ее ноги туфли.
— Ложись спать! — приказала Бодростина.
Девушка поклонилась и вышла.
Глафира Васильевна встала, тихо обошла несколько раз вокруг комнаты, опустила занавесы дверей, отдернула занавесу окна, в нише которого помещался диван, и снова села здесь и наморщила лоб.
— Игра начинается большая и опасная! — носилось в ее голове. — Рискованнее и смелее я еще не задумывала ничего, и я выиграю... Я должна выиграть ставку, потому что ходы мои рассчитаны верно, и рука, мне повинующаяся, неотразима, но... Горданов хитер, и с ним нужна вся осторожность, чтоб он ранее времени не узнал, что он будет работать не для себя. Впрочем, я готова встретить все, и нам пора покончить с Павлом Николаевичем наши счеты! Бодростина тихо вздохнула и, взяв неспешною рукой со стола письмо, разорвала конверт.
Письмо было на большом листе почтовой бумаги, исписанном вокруг чистым и красивым мужским почерком, внизу стояла подпись «Подозеров».
«Я получил четыре дня тому назад ваше письмо, — начинал автор. — Не нахожу слов, которыми мог бы отблагодарить вас за чувства, выраженные в ваших строках, которых я никогда не перестану помнить. Я не отвечал вам скоро потому, что хотел отвечать обстоятельно. Прежде всего я отвечу на ваше запрещение смеяться над вами. Это напрасно. Я не умею смеяться ни над кем и всегда отвечаю на всякий вопрос по совести, точно так же поступаю и в настоящем случае.
Вы напоминаете мне мой долг вам, напоминаете данное мною вам, при одном шуточном случае, серьезное слово безотговорочно и честно исполнить первое ваше требование, и в силу этого слова делаете для меня обязательным обстоятельный и чистосердечный ответ на ваше письмо, заключающее в себе и дружеский вопрос, и совет, и предостережение, и ваше предсказание. Вы разрешаете мне тоже, взамен всяких ответов, отделаться сознанием, что откровенность мне не по силам.
Очень благодарю вас за дарование мне такого легкого способа отступления, но, конечно, им не воспользуюсь: я буду с вами совершенно откровенен.
Я бы очень прямо отвечал вам, почему держу себя, как вы говорите, «так странно и двусмысленно», если б я видел в моем поведении какую-нибудь двусмысленность и загадочность. Мне даже самому было бы приятно уяснить себе мои странности, но я, к крайней моей досаде, лишен способности их видеть. Мне кажется, что я живу, как все, одеваюсь, как все, ложусь спать и встаю в часы, более или менее обычные для всех, занимаюсь моею службой, посещаю моих немногочисленных друзей и мало забочусь о моих врагах, которых, по вашему замечанию, у меня очень много. Не смею вам противоречить, но если это и так, то что же я должен делать, чтоб уменьшить число моих недоброжелателей? Я не употреблял никаких стараний приобресть их вражду и не знаю, за что получил ее, не знаю и средства к умилостивлению их. Помогите мне, пожалуйста, и спросите первого человека, который выскажется ко мне пред вами враждебно, что я ему сделал худого? Этим вы мне дадите средство исправиться. Вы относите чувства моих недругов к моему безучастию «в общественных делах» и ставите мне в укоризну мой отказ от продолжения секретарства по человеколюбивым учреждениям, в котором вы принимаете участие. Мне кажется, что вы правы: я действительно мало показываюсь в обществе, но это потому, что у меня очень хлопотливая служба, едва оставляющая мне сколько-нибудь времени для того, чтоб освежить мою голову страницей чтения. Поэтому же я отказался и от секретарства, и от всякого участия в благотворительных учреждениях, кроме посильной лепты моей, которую отдаю охотно. Я не могу действовать иначе, потому что прямое мое дело, которое я ежеминутно делаю, стоя у интересов крестьян, тоже есть дело благотворения, и оно непременно потерпело бы, если б я стал разделять свое время на стороны. Скажу вам более: я бы считал очень радостным фактом, если бы среди русских мужчин, имеющих определенные занятия, находилось как можно менее охотников вступаться в дела непосредственного благотворения. Зная характер этих дел, и характер, и цель большинства пристающих к ним лиц, я позволяю себе искреннейше желать, чтобы благотворение и помощь бедным, как прямые дела христианского милосердия, ведались приходами, а не людьми, занимающимися этими делами pour passer le temps 1. Я уверен, что это к тому непременно и придет, когда умножится число людей, в самом деле добрых и в самом деле соболезнующих о нуждающемся брате, а не ищущих себе связей и протекций насчет благотворения, как это делается. Я чувствую ложь в основе нынешней благотворительности и не хочу тратить сил и времени, нужных делу, служить которому я обязан присягой и добрым моим хотением. Вот вам разъяснение одной моей странности и последней неловкости, «завершившей, по вашим словам, цепь моих бестактностей».
Вторая укоризна в том, что вы называете невниманием к своей репутации, может быть, еще более справедлива. Вы ставите мне в вину, что я «кажется» никогда не употребляю никаких усилий для того, чтобы смирить зазнающуюся наглость. Слово «кажется» вы поставили напрасно: вы могли бы даже сказать это совершенно утвердительно, и я признал бы неопровержимую правоту ваших слов; но вы неправы, приписывая это так называемому «презрительному индифферентизму к людям» или «неспособности ненавидеть, происходящей от неспособности любить». Здесь вы погрешаете в ваших заключениях. «Презрительного индифферентизма к людям» во мне нет, и я его даже не понимаю: напротив, у меня через меру неосторожны и велики тяготения к одним людям, и я очень сильно чувствую отвращение от других, но ненавидеть я действительно не способен. Я, как человек очень дурно воспитанный, конечно, не свободен от злобности, и я даже могу ненавидеть, но я ненавижу одну мстительную ненависть, и зато ненавижу ее непримиримо. Наше дело сберегать себя от зла, к которому, к сожалению, более или менее склонны все люди, но ненавидеть человека и стараться мстить ему... это такая черная работа, от которой, конечно, пожелает освободить себя всякий, как только он захочет вдуматься в существо дела. Вот вам объяснение моего мнимого незлобия: я не мстителен, больше по недосугу и по эгоизму.
1 Чтобы провести время (фр.).
Вы вообще желаете поднять во мне желание защищаться и, указывая на принца Гамлета, как на пример, достойный подражания, советуете усвоить из него «то, что в нем есть самого сильного». Принц Гамлет — образец великий, и вы напрасно шутите, что будто бы его душа живет теперь во мне. Нет, к сожалению, это не так; но все-таки я чту и чувствую принца Гамлета, и я знаю, что у него было самое сильное, но это отнюдь ведь не желание мстить и издеваться, здесь только слабость принца, а сила его в любви его... в любви его не к Офелии, которую он, как женщину, любит потому, что «любит», а в его любви к Горацио, которого «избрал он перед всеми». Вы, конечно, помните эти прекрасные слова, за что он избран:
Страдая, ты, казалось, не страдал,
Ты брал удары и дары судьбы,
Благодаря за то и за другое,
И ты благословен!..
Дай мужа мне, которого бы страсть
Не делала рабом, и я укрою
Его души моей в святейших недрах,
Как я укрыл тебя.
Поистине, я во всей трагедии не знаю ничего величественнее этого, вообще малозамечаемого места; но здесь достоин подражания не нерешительный принц Гамлет, а Горацио, с которым у меня, к сожалению, только одно сходство, что я такой же «бедняк», как он.
Далее вы советуете мне изменить мой образ жизни, но скажите, Бога ради, можно ли не быть самим собой ни для чего или, что еще хуже, измениться для того, чтобы быть хуже?.. Я это говорю потому, что вы мне советуете «окраситься», потому что «белый цвет марок», вы решительно сказали «интригуйте, как большинство, имейте все пороки, которые имеют все, не будьте мимозой, свертывающейся от всякого преткновения, будьте чем вы хотите: шулером, взяточником, ханжой, и вас кто-нибудь да станет считать своим, между тем как ныне, гнушаясь гадости людей, вы всем не только чужой, но даже ненавистный человек. Люди не прощают такого поведения: они не верят, что вы отходите для того, чтобы только отойти; нет, им кажется, что это не цель, а только средство! чтобы вредить им издали. Вредите им, и они будут гораздо спокойнее, чем находясь в догадках». Вы очень наблюдательны, Глафира Васильевна! Это все очень верно, но не сами ли же вы говорили, что, чтоб угодить на общий вкус, надо себя «безобразить». Согласитесь, это очень большая жертва, для которой нужно своего рода геройство. Как эгоист, я имею более близкую мне заботу: прежде чем нравиться людям, я не хочу приходить в окончательный разлад с самим собой. Как вы хотите, человеку можно простить эту манкировку и позволить заботиться немножко о своем самоусовершенствовании или, скромнее сказать, о собственном исправлении. Надо же немножко держать корректуру над самим собой, чтобы не дойти в конце концов до внутреннего разлада, за чем, конечно, всегда следует необходимость плясать по чужой дудке, к чему я совершенно неспособен. Вы указываете мне на существующую будто бы общую подготовку сразу сложиться в дружный союз против меня и предрекаете, что это будут силы, которые сломят всякую волю; но, Глафира Васильевна, я никогда и не считал себя героем, для одоления которого нужны были бы очень сложные силы вроде «всеобщего раздражения или всеобщего озлобления», которые вы желаете отвратить от головы моей. Я гораздо скромнее и уступчивей, и все, на что я уповаю, это усвоенная мною себе привычка отходить от зла, творя этим благо и себе, и тому, кому я досадил. Я не претендую ни на какое место в обществе, ни на какое влияние; даже равнодушествую, как вы говорите, к общественному мнению, все потому, что я крайне доволен своим положением, в котором никто на свете не может заставить меня пожертвовать драгоценною для меня свободой совести, мыслей и поступков; я среди людей как среди моря: не все валы сердиты и не все и нахлестывают, а есть и такие, которые выносят. Я не хвалюсь друзьями, но они у меня есть. Если я, по вашим же словам, не смею рассчитывать на доброжелательство в обществе, то чему же, например, я обязан за ваше участие и внимание, последним доказательством которых мне служит лежащий предо мной листок, написанный вашею доброжелательною рукой? Неужто в самом деле тому, что я не хотел позволить где-то и кому-то говорить о вас вздорные и пустые слова, обстоятельство, которое вы помните с приводящим меня в стыд постоянством?.. Глафира Васильевна! я очень люблю Филетера Ивановича, но я готов разлюбить его за его болтливость, с которою он передал вам почти трактирную, недостойную сцену мою с Висленевым, который лепетал о вас что-то тогда, отнюдь не по зложелательству, а по тогдашнему, довольно многим общему влечению к так называвшейся «очистительной критике». Форов не должен был ничего сообщать об этом случае, незначащем и недостойном никакого внимания, как и вы, мне кажется, не должны напоминать мне об этом, поселяя тем неприятное чувство к добродушному Филетеру Ивановичу. Попросить человека перестать говорить не совсем хорошо о женщине, поверьте, самый простой поступок, который всякий сделает по такому же естественному побуждению, по какому человек желает не видать неприятного зрелища или не слыхать раздирающих звуков. При известной слабости нервов и известной привычке потворствовать им я в том случае, который стараюсь объяснить вам, поступил бы одинаково, какой бы женщины это ни касалось. И затем последнее: за приглашение ваше гостить лето у вас в Рыбацком я, разумеется, бесконечно вам благодарен, но принять его я не могу: как ни неприятно оставаться в городе, но я уехать отсюда не могу.
Примите и пр.
Андрей Подозеров».
Бодростина сжала письмо в руке, посидела минуту молча, потом встала и, шепнув: «и ты благословен», вздохнула и ушла в свою спальню.
Через две минуты она снова появилась оттуда в кабинете в пышной белой блузе и с распущенными не длинными, но густыми темно-русыми волосами, зажгла пахитоску, открыла окно и, став на колени на диван, легла грудью на бархатный матрац подоконника.
«Он бежит меня и tant mieux 1». Она истерически бросила за окно пахитоску и, хрустнув пальцами обеих рук, соскользнула на диван, закрыла глаза в заснула при беспрестанных мельканиях слов: «Завтра, завтра, не сегодня — так ленивцы говорят: завтра, завтра». И вдруг пауза, лишь на рассвете в комнату является черноглазый мальчик в розовой ситцевой рубашке, барабанит в громко поет:
Бей, бей, барабан,
Маршируй впереди,
А кто спит, тот болван.
Поскорее буди!..
У Бодростиной дрожат веки, грудь подымается, и она хочет вскрикнуть: «брат! Гриша», но открывает глаза... Ее комната освещена жарким светом изменчивого утра, девушка стоит пред Глафирой Васильевной и настойчиво повторяет ей: «Сударыня, вас ждут Генрих Иванович Ропшин».
Бодростина мгновенно вскочила, спросила мокрое полотенце, обтерла им лицо и велела привести гостя в бельведер.
1 Тем лучше (фр.).
— Мне красную шаль, — сказала она возвратившейся девушке и, накинув на плечи требуемую шаль, нетерпеливо вышла из комнаты и поднялась в бельведер.
В фонаре, залитом солнцем, стоял молодой человек, блондин, «нескверный и неблазный», с свернутым в трубку листом бумаги.
Заслышав легкие шаги входившей по лестнице Бодростиной, он встал и подбодрился, но при входе ее тотчас же снова потупил глаза.
Глафира Васильевна остановилась пред ним молча, молодой человек, не сказав ей ни слова, подал ей свернутый лист бумаги.
Глафира Васильевна взяла этот лист, пробежала его первые строки и, сдернув с себя красную шаль, сказала:
— Как здесь сегодня ярко! завесьте, пожалуйста, одно окно этим платком!
«Нескверный и неблазный» юноша молчаливо и робко исполнил ее приказание и, когда оглянулся, увидел Глафиру Васильевну, стоящую на своем месте, а свиток бумаги у ее ног.
Глафира была бледна как плат, но Ропшин этого не заметил, потому что на ее лицо падало отражение красной шали. Он наклонился к ногам окаменевшей Глафиры, чтобы поднять лист. Бодростина в это мгновение встрепенулась и с подкупающею улыбкой на устах приподняла от ног своих этого белого юношу, взяв его одним пальцем под его безволосый подбородок.
Тот истлел от блаженства и зашатался, не зная куда ему двинуться: вперед или назад?
— Оставьте мне это на два часа, — проговорила Бодростина, держа свиток и стараясь выговаривать каждый слог как можно отчетливее, между тем как язык ее деревенел и ноги подкашивались.
Ропшин, млея и колеблясь, поклонился и вышел.
С этим вместе Глафира Васильевна воскликнула: «я нищая!» и, пошатнувшись, упала без чувств на пол.
Через час после этой сцены в доме Бодростиной ветер ревел, хлестал дождь и гремел гром и реяли молнии.
Дурно запертые рамы распахнулись и в фонаре бодростинского бельведера, и в комнате Горданова.
Последний, крепко заспавшийся, был разбужен бурей и ливнем; он позвонил нетерпеливо человека и велел ему открыть занавесы и затворить хлопавшую раму.
— Цветы! — доложил ему лакей, подавая букет.
Горданов покосился на свежие розы, встал и подошел к окну.
— Ага! загорелась орифлама! — проговорил он, почесав себе шею, и, взяв на столе листочек бумаги, написал: «Дела должны идти хорошо. Проси мне у Тихона Ларионовича льготы всего два месяца: через два месяца я буду богат и тогда я ваш. Занятые у тебя триста рублей посылаю в особом конверте завтра. Муж твой пока еще служит и его надо поберечь».
Горданов запечатал это письмо и, надписав его «в Петербург, Алине Александровне Висленевой», подал конверт слуге, сказав: «Сию минуту сдай на почту, но прежде отнеси эти цветы Ларисе Платоновне Висленевой».
А огненная орифлама все горела над городом в одной из рам бельведера, и ветер рвал ее и хлестал ее мокрые каймы о железные трубы железных драконов, венчавших крышу хрустальной клетки, громоздившейся на крутой горе и под сильным ветром.
Теперь мы должны покинуть здесь под бурей всех наших провинциальных знакомых и их заезжих гостей и перенестись с тучного и теплого чернозема к холодным финским берегам, где заложен и выстроен на костях и сваях город, из которого в последние годы, доколе не совершился круг, шли и думали вечно идти самые разнообразные новаторы. Посмотрим, скрепя наши сердца и нервы, в некоторые недавно еще столь безобразные и неряшливые, а ныне столь отменившиеся от прошлого клочья этого гнезда, где в остром уксусе «сорока разбойников» отмачиваются и в вымоченном виде выбираются в житейское плаванье новые межеумки, с которыми надо ликовать или мучиться и многозаботливым Марфам, и безвестно совершающим свое течение Мариям.
Путь не тяжел, — срок не долог, и мы откочевываем в Петербург.
«На ножах».
Часть первая. Боль врача ищет.
Часть вторая. Бездна призывает бездну.
Часть третья. Кровь.
Часть четвертая. Мертвый узел.
Часть пятая. Темные силы.
Часть шестая. Через край.
Эпилог.
Примечания.
Художественный фильм, 1-5 серии.
Художественный фильм, 6-11 серии.
|