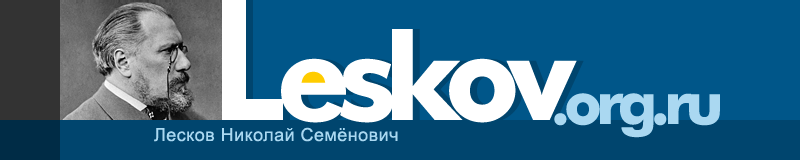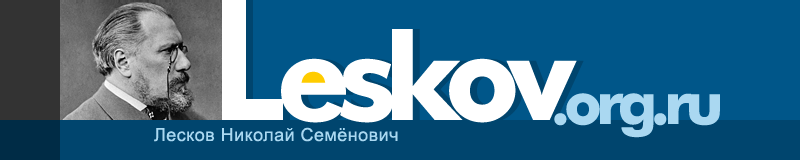|
На ножах.
Часть четвертая. Мертвый узел.
«На ножах».
Часть первая. Боль врача ищет.
Часть вторая. Бездна призывает бездну.
Часть третья. Кровь.
Часть четвертая. Мертвый узел.
Часть пятая. Темные силы.
Часть шестая. Через край.
Эпилог.
Примечания.
Художественный фильм, 1-5 серии.
Художественный фильм, 6-11 серии.
Глава первая. Тик и так.
Рана, нанесенная Подозерову предательским выстрелом Горданова, была из ран тяжких и опасных, но не безусловно смертельных, и Подозеров не умер. Излечение таких сквозных ран навылет в грудь под пятое ребро слева относят к разряду чудесных, на самом же деле здесь гораздо менее принадлежит чуду врачества, чем случаю. Все зависит от момента пролета пули по области, занимаемой сердцем. Отправления сердца, как известно, производятся постоянным его сокращением и расширением, — эти попеременно один за другим следующие моменты, называемые в медицине sistole [Сжимание (греч.)] и diastole [Растягивание (греч.)], дают два звука: тик и так.
В первом из них орган сокращается в продольном своем диаметре и оставляет около себя место, по которому стороннее тело может пройти насквозь через грудь человека, не коснувшись сердца и не повредив его. Назад тому очень немного лет, в Москве один известный злодей, в минуту большой опасности быть пойманным, выстрелил себе в сердце и остался жив, потому что сердце его в момент прохождения пули было в состоянии сокращения: сердце Подозерова тоже сказало «тик» в то время, когда Горданов решал «так». Подозеров остался жить, но тем не менее он остановился на самом краю гроба: легкие его были поранены, и за этим последовали и кровоизлияние в полость груди, и удушающая легочная опухоль, и травматическая лихорадка. Прошло около месяца после бойни, устроенной Гордановым, а Подозеров все еще был ближе к смерти, чем к выздоровлению. Опасная лихорадка не уступала самому внимательному и искусному лечению.
На дворе в это время стояли человеконенавистные дни октября: ночью мокрая вьюга и изморозь, днем ливень, и в промежутках тяжелая серая мгла; грязь и мощеных, и немощеных улиц растворилась и топила и пешего, и конного. Мокрые заборы, мокрые крыши и запотелые окна словно плакали, а осклизшие деревья садов, доставлявших летом столько приятной тени своею зеленью, теперь беспокойно качались и, скрипя на корнях, хлестали черными ветвями по стеклам не закрытых ставнями окон и наводили уныние.
Спальня Подозерова, где он лежал, была комната средней величины, она выходила в сад двумя окнами, в которые таким образом жутко стучали голые ветви. Во все это время Андрей Иванович не возвращался к сознательной жизни человека: он был чужд всяких забот и желаний и жил лишь специально жизнию больного. Он постоянно или находился в полузабытьи или, приходя в себя, сознавал лишь только то, на что обращали его внимание; отвечал на то, о чем его спрашивали; думал о том, что было предполагаемо ему для ответа, и никак не далее. Собственной инициативы у него не было ни в чем. Все прошедшее для него не существовало: никакое будущее ему не мерещилось; все настоящее сосредоточивалось в данной краткой терции, потребной для сознания предложенного вопроса. Он называл по имени Катерину Астафьевну Форову, генеральшу и Ларису, которых во все это время постоянно видел пред собою, но он ни разу не остановился на том, почему здесь, возле него, находятся именно эти, а не какие-нибудь другие лица; он ни разу не спросил ни одну из них: отчего все они так изменились, отчего Катерина Астафьевна осунулась, и все ее волосы сплошь побелели; отчего также похудела и пожелтела генеральша Александра Ивановна и нет в ней того спокойствия и самообладания, которые одних так успокоивали, а другим давали столько материала для рассуждений о ее бесчувственности. Его не интересовало, отчего он, открывая глаза, так часто видит ее в каком-то окаменелом состоянии, со взглядом, неподвижно вперенным в пустой угол полутемной комнаты; отчего белые пальцы ее упертой в висок руки нетерпеливо движутся и хрустят в своих суставах. Ему было все равно. Лара, пожалуй, еще больше могла остановить на себе его внимание, но он не замечал и того, что сталось с нею. Лариса не похудела, но ее лицо... погрубело. Она подурнела. На ней лежал след страдания тяжелого и долгого, но страдания не очищающего и возвышающего душу, и гнетущего страхом и досадой. Подозеров ничего этого не наблюдал и ни над чем не останавливался. Об отсутствующих же нечего было и говорить, он во всю свою болезнь ни разу не вспомнил ни про Горданова, ни про Висленева, не спросил про Филетера Ивановича и не полюбопытствовал, почему он не видал возле себя коренастого майора, а между тем в положении всех этих лиц произошли значительные перемены с тех пор, как мы расстались с ними в конце третьей части нашего романа.
Глава вторая. Где обретается Форов. Вспомянутый нами майор Форов еще до сего времени не возвращался домой с тех пор, как мы видели его едущим на дрожках с избитым им квартальным надзирателем. На майора Форова обрушились все напасти: его воинственным поступком было как бы затушевано на время преступление Горданова. Уличная сцена майора, составлявшая относительно несколько позднейшую новость дня, была возведена в степень важного события, за которым дуэль Подозерова сходила на степень события гораздо низшего. Тот самый вице-губернатор, которого так бесцеремонно и нагло осмеивал Горданов, увидел в поступке Форова верное средство подслужиться общественному мнению, заинтересованному бравурствами Павла Николаевича, и ринулся со всею страстию и суровостью на беспомощного майора. Молодые, прилизанные и зашитые в вицмундиры канцелярские шавки, из породы еще не сознающих себя гордановцев, держали ту же ноту. В кабинете начальника было изречено слово о немедленном же и строжайшем аресте майора Форова, оказавшего пример такого явного буйства и оскорбления должностного лица; в канцеляриях слово это облеклось плотию; там строчились бумаги, открывавшие Филетеру Ивановичу тяжелые двери тюрьмы, и этими дверями честный майор был отделен от мира, в котором он оказался вредным и опасным членом. О других героях этого дня пока было словно позабыто: некоторым занимавшимся их судьбою мнилось, что Горданова и Подозерова ждет тягчайшая участь впереди, но справедливость требует сказать, что двумя этими субъектами занимались лишь очень немногие из губернского бомонда; наибольшее же внимание масс принадлежало майору. По исконному обычаю масс радоваться всяким напастям полиции, у майора вдруг нашлось в городе очень много друзей, которые одобряли его поступок и передавали его из уст в уста с самыми невероятными преувеличениями, доходившими до того, что майор вдруг стал чем-то вроде сказочного богатыря, одаренного такою силой, что возьмет он за руку — летит рука прочь, схватит за ногу — нога прочь. Говорили, будто бы Филетер Иванович совсем убил квартального, и утверждали, что он даже хотел перебить все начальство во всем его составе, и непременно исполнил бы это, но не выполнил такой программы лишь только по неполучению своевременно надлежащего подкрепления со стороны общества, и был заключен в тюрьму с помощью целого баталиона солдат. В городе оказалось очень много людей, которые искренне сожалели, что майору не была оказана надлежащая помощь; в тюрьму, куда посадили Филетера Ивановича, начали притекать обильные приношения булками, пирогами с горохом и вареною рыбой, а одна купчиха-вдова, ведшая тридцатилетнюю войну с полицией, даже послала Форову красный медный чайник, фунт чаю, пуховик, две подушки в темных ситцевых наволочках, частый роговой гребень, банку персидского порошку, соломенные бирюльки и пучок сухой травы. Майор принял все, не исключая травы и бирюлек, которые он выровнял и устроил из этого приношения очень удобные стельки в свои протекшие сапоги. Затем он преспокойно уселся жить в остроге, согревая себя купчихиным чаем из ее же медного чайника.
Глава третья. Каково поживают другие.
Что касается до Горданова, Подозерова и Висленева, то о них вспомнили только на другой день и, ввиду болезненного состояния Горданова и Подозерова, подчинили их домашнему аресту в их собственных квартирах; когда же пришли к Висленеву с тем, чтобы пригласить его переехать на гауптвахту, то нашли в его комнате только обрывки газетных листов, которыми Иосаф Платонович обертывал вещи; сам же он еще вчера вечером уехал Бог весть куда. Спрошенная о его исчезновении сестра его Лариса не могла дать никакого определительного ответа, и это вовсе не было с ее стороны лукавством: она в самом деле не знала, куда скрылся Иосаф. Она рассталась с братом еще утром, когда он, возвратясь с поединка, сразил ее вестью о смерти Подозерова. Не отходя с той поры от постели умирающего, Лариса ничего не знала о своем брате, людям же было известно лишь только то, что Иосаф Платонович вышел куда-то вскоре за бросившеюся из дому барышней и не возвращался домой до вечера, а потом пришел, уложил сам свои саквояжи, и как уехал, так уже и не возвращался. К розысканию его велено было принять самые тщательные меры, заключающиеся у нас, как известно, в переписке из части в часть, из квартала в квартал, — меры, приносящие какую-нибудь пользу тогда лишь, когда тот, о ком идет дело, сам желает быть пойманным.
Прошел месяц, а о Висленеве не было ни слуху, ни духу. Исчезновение его было загадкой и для сестры его, и для тетки, которые писали ему в Петербург на имя его жены, но письма их оставались без ответа, — на что, впрочем, и Катерина Астафьевна, и Лариса, занятые положением ближайших к ним лиц, не слишком и сетовали. Но наконец пришел ответ из Петербурга путем официальным. Местная предержащая власть сносилась с подлежащею властью столицы о розыскании Висленева и получила известие, что Иосаф Платонович в Питере не появлялся. Да и зачем ему было туда ехать? Чтобы попасть в лапы своей жены, от которой он во время своей кочевки уже немножко эмансипировался? Он даже льстил себя надеждой вовсе от нее освободиться и начать свое «независимое существование», на что приближающее его сорокалетие давало ему в собственных глазах некоторое право. Но куда он исчез и пропал? Это оставалось тайной для всех... для всех, кроме одного Горданова, который недели чрез две после исчезновения Висленева получил из-за границы письмо, писанное рукой Иосафа Платоновича, но за подписью Esperance [Надежда (фр.)]. В этом письме злополучная Esperance, в которой Горданов отгадал брата Ларисы, жаловалась безжалостному Павлу Николаевичу на преследующую ее роковую судьбу и просила его «во имя их прежних отношений» прислать ей денег на имя общего их знакомого Joseph W. Горданов прочел это письмо и бросил его без всякого внимания. Он, во-первых, не видел в эту минуту никакой надобности делиться чем бы то ни было с Висленевым, а во-вторых, ему было и недосужно. Павел Николаевич сам собирался в путь и преодолевал затруднения, возникавшие пред ним по случаю собственной его подсудимости. Препятствия эти казались неодолимыми, но Горданов поборол их и, с помощью ходатайствовавшего за него пред властями Бодростина, уехал в Петербург к Михаилу Андреевичу, оставив по себе поручительство, что он явится к следствию, когда возвращение к Подозерову сознания и сил сделает возможным нужные с его стороны показания. Горданов представил целый ряд убедительнейших доказательств, что весьма важные предприятия потерпят и разрушатся от стеснения его свободы, и стеснение это было расширено. В наш век предприятий нельзя отказывать в таких мелочах крупному предпринимателю, каким несомненно представлялся Горданов всем или почти всем, кроме разве Подозерова, Форова, Катерины Астафьевны и генеральши, которые считали его не более как большим мошенником. Но им было теперь не до него: один из этих людей лежал на краю гроба, другой философствовал в остроге, а женщины переходили от одного страдальца к другому и не останавливались на том, что делается с негодяями.
Было и еще одно лицо, которое и эту оценку для Горданова признавало слишком преувеличенною: это лицо, находившее, что для Павла Николаевича слишком много, чтоб его признавали «большим мошенником», была Глафира Васильевна Бодростина, непостижимо тихо и ловко спрятавшаяся от молвы и очей во время всей последней передряги по поводу поединка. Она уехала в деревню, и во все это время, употребляя ее же французскую фразеологию, она была sous le banc [Надежно спрятана (фр.)]. При всем провинциальном досужестве, про нее никто не вспомнил ни при одной смете. Но она не забыла своих слуг и друзей. Ее ловкая напрактикованная горничная приезжала в город и была два раза у Горданова. Глафира Васильевна, очевидно, была сильно заинтересована тем, чтоб Павел Николаевич получил возможность выехать в Петербург, но во всех хлопотах об этом она не приняла ни малейшего, по крайней мере видимого, участия. Ее словно не было в живых, и о ней только невзначай вспоминали два или три человека, которые, возвращаясь однажды ночью из клуба, неожиданно увидели слабый свет в окнах ее комнаты; но и тут, по всем наведенным на другой день справкам, оказалось, что Глафира Васильевна приезжала в город на короткое время и затем выехала. Куда? Об этом узнали не скоро. Она уехала не назад в свою деревню, а куда-то далеко: одни предполагали, что она отправилась в Петербург, чтобы, пользуясь болезнью Горданова, отговорить мужа от рискованного предприятия устроить фабрику мясных консервов, в которое вовлек его этот Горданов, давний враг Глафиры, которого она ненавидела; другие же думали, что она, рассорясь с мужем, поехала кутнуть за границу. Сколько-нибудь достоверные сведения о направлении, принятом Глафирой, имел один лишь торопливо отъезжавший из города Павел Николаевич Горданов, но он, разумеется, никому об этом ничего не говорил. Откровенность в этом случае не была в его планах, да ему было некогда: он сам только что получил разрешение съехать под поручительством в Петербург и торопился несказанно. Эта торопливость его в значительной мере поддерживала то мнение, что Бодростина поехала к мужу разрушать пагубное влияние на него Горданова и что сей последний гонится за нею, открывая таким образом игру в кошку и мышку.
Глава четвертая. Кошка и мышка.
В догадке этой было нечто намекающее на что-то, существовавшее на самом деле. Горданов и Глафира должны были встретиться, но как и где?.. На это у них было расписание.
Подъезжая к московскому дебаркадеру железной дороги, по которой Горданов утекал из провинции, он тревожно смотрел из окна своего вагона и вдруг покраснел, увидев прохаживающуюся по террасе высокую даму в длинной бархатной тальме и такой же круглой шляпе, с густым вуалем. Дама тоже заметила его в окне, и они оба кивнули друг другу и встретились на платформе без удивления неожиданности, как встречаются два агента одного и того же дела, съехавшиеся по своим обязанностям. Дама эта была Глафира Васильевна Бодростина.
— Vous etes bien aimable [Вы очень любезны (фр.)], — сказал ей Горданов, сходя и протягивая ей свою руку. — Я никак не ожидал, чтобы вы меня даже встретили.
Бодростина вместо ответа спокойно подала ему свою правую руку, а левой откинула вуаль. Она тоже несколько переменилась с тех пор, как мы ее видели отъезжавшею из хуторка генеральши с потерпевшим тогда неожиданное поражение Гордановым. Глафира Васильевна немного побледнела, и прекрасные говорящие глаза ее утратили свою беспокойную тревожность: они теперь смотрели сосредоточеннее и спокойнее, и на всем лице ее выражалась сознательная решимость.
— Я вас ждала с нетерпением, — сказала она Горданову, сходя с ним под руку с крыльца дебаркадера вслед за носильщиками, укладывавшими на козлы наемной кареты щегольские чемоданы Павла Николаевича. — Мы должны видеться здесь в Москве самое короткое время и потом расстаться, и может быть, очень надолго.
— Ты разве не едешь в Петербург?
— Я в Петербург не еду; вы поедете туда одни и непременно завтра же; я тоже уеду завтра, но нам не одна дорога.
— Ты куда?
— Я еду за границу, но садись, пожалуйста, в карету; теперь мы еще едем вместе.
— Я не решил, где мне остановиться, — проговорил Горданов, усаживаясь в экипаж. — Ты где стоишь? Я могу пристать где-нибудь поближе или возьму нумер в той же гостинице.
— Вы остановитесь у меня, — ответила ему скороговоркой Бодростина и, высунувшись из окна экипажа, велела кучеру ехать в одну из известнейших московских гостиниц.
— Я там живу уже неделю в ожидании моего мужа, — добавила она, обращаясь к Горданову. — У меня большой семейный нумер, и вам вовсе нет нужды искать для себя другого помещения и понапрасну прописываться в Москве.
— Ты, значит, делаешь меня на это время своим мужем? Это очень обязательно с твоей стороны.
Бодростина равнодушно посмотрела на него.
— Что ты на меня глядишь таким уничтожающим взглядом?
— Ничего, я так только немножко вам удивляюсь.
— Чему и в чем?
— Нам не к лицу эти лица. Я везу вас к себе просто для того, чтобы вы не прописывали в Москве своего имени, потому что вам его может быть не совсем удобно выставлять на коридорной дощечке, мимо которой ходят и читают все и каждый.
— Да, понимаю, понимаю. Довольно.
— Кажется, понятно.
И затем Глафира Васильевна, не касаясь никаких воспоминаний о том, что было в покинутом захолустье, не особенно сухим, но серьезным и деловым тоном заговорила с Гордановым о том, что он должен совершить в Петербурге в качестве ее агента при ее муже. Все это заключалось в нескольких словах, что Павел Николаевич должен способствовать старческим слабостям Михаила Андреевича Бодростина к графине Казимире и спутать его с нею как можно скандальнее и крепче. Горданов все это слушал и наконец возразил, что он только не понимает, зачем это нужно, но не получил никакого ответа, потому что экипаж в это время остановился у подъезда гостиницы.
Глава пятая. Nota bene на всякий случай.
Нумер, который занимала Бодростина, состоял из четырех комнат, хорошо меблированных и устланных сплошь пушистыми, некогда весьма дорогими коврами. Комнаты отделялись одна от другой массивными перегородками из орехового дерева, с тяжелою резьбой и точеными украшениями в полуготическом, полурусском стиле. Длинная комната направо из передней была занята под спальню и дорожный будуар Глафиры, а квадратная комнатка без окна, влево из передней, вмещала в себе застланную свежим бельем кровать, комод и несколько стульев.
Эту комнату Глафира Васильевна и отвела Горданову и велела в ней положить прибывшие с ним пожитки.
— Где же ваша собственная прислуга? — полюбопытствовал Горданов, позируя и оправляясь пред зеркалом в ожидании умыванья.
— Со мною нет здесь собственной прислуги, — отвечала Бодростина.
— Так вы путешествуете одни?
Глафира Ваеилъевна слегка прижала нижнюю губу и склонила голову, что Горданов мог принять и за утвердительный ответ на его предположение, но что точно так же удобно можно было отнести и просто к усилиям, с которыми Бодростина в это время открывала свой дорожный письменный бювар.
Пока Павел Николаевич умывался и прихорашивался, Бодростина писала, и когда Горданов взошел к ней с сигарой в зубах, одетый в тепленькую плюшевую курточку цвета шерсти молодого бобра, Глафира подняла на него глаза и, улыбнувшись, спросила:
— Что это за костюм?
— А что такое? — отвечал, оглядываясь, Горданов. — Что за вопрос? а? что тебе кажется в моем платье?
— Ничего... платье очень хорошее и удобное, чтоб от долгов бегать. Но как вы стали тревожны!
— Чему же вы это приписываете?
Бодростина пожала с чуть заметною улыбкой плечами и отвечала:
— Вероятно продолжительному сношению с глупыми людьми: это злит и портит характер.
— Да; вы правы — это портит характер.
— Особенно у тех, у кого он и без того был всегда гадок.
Горданов хотел отшутиться, но, взглянув на Бодростину и видя ее снова всю погруженною в писание, походил, посвистал и скрылся назад в свою комнату. Тут он пошуршал в своих саквояжах и, появясь через несколько минут в пальто и в шляпе, сказал:
— Я пойду пройдусь.
— Да; это прекрасно, — отвечала Бодростина, — только закутывайся хорошенько повыше кашне и надвигай пониже шляпу.
Горданов слегка покраснел и процедил сквозь зубы:
— Ну уж это даже не совсем и остроумно.
— Я вовсе и не хочу быть с вами остроумною, а говорю просто. Вы в самом деле подите походите, а я здесь кончу нужные письма и в пять часов мы будем обедать. Здесь прекрасный повар. А кстати, можете вы мне оказать услугу?
— Сделайте одолжение, приказывайте, — отвечал сухо Горданов, подправляя рукой загиб своего мехового воротника.
— J'ai bon appetit aujourd'hui [У меня сегодня хороший аппетит (фр.)]. Скажите, пожалуйста, чтобы для меня, между прочим, велели приготовить fricandeau sauce piquante. C'est delicieux, et j'espere que vous le trouverez e votre gout [Фрикандо с пикантным соусом. Это восхитительно, и я надеюсь, что вам это придется по вкусу (фр.)].
— Извольте, — отвечал Павел Николаевич и, поворотясь, вышел в коридор.
Это его обидело.
Он позвал слугу тотчас, как только переступил порог двери, и передал ему приказание Бодростиной. Он исполнил все это громко, нарочно с тем, чтобы Глафира слышала, как он обошелся с ее поручением, в котором Павел Николаевич видел явную цель его унизить.
Горданов был жестоко зол на себя и, быстро шагая по косым тротуарам Москвы, проводил самые нелестные для себя параллели между самим собою и своим bete noire [Презренным (фр.)], Иосафом Висленевым.
— Недалеко, недалеко я отбежал от моего бедного приятеля, — говорил он, воспоминая свои собственные проделки с наивным Жозефом и проводя в сопоставление с ними то, что может делать с ним Бодростина. Он все более и более убеждался, что и его положение в сущности немного прочнее положения Висленева.
— Не все ли равно, — рассуждал он, — я верховодил этим глупым Ясафкой по поводу сотни рублей; мною точно так же верховодят за несколько большие суммы. Мы оба одного разбора, только разных сортов, оба лентяи, оба хотели подняться на фу-фу, и одна нам и честь.
Глава шестая. Итог для новой сметы.
Горданов припомнил, какие он роли отыгрывал в провинции и какой страх нагонял он там на добрых людей, и ему даже стало страшно.
— Что, — соображал он, — если бы из них кто-нибудь знал, на каком тонком-претонком волоске я мотаюсь? Если бы только кто-нибудь из них пронюхал, что у меня под ногами нет никакой почвы, что я зависимее каждого из них и что пропустить меня и сквозь сито, и сквозь решето зависит вполне от одного каприза этой женщины?.. Как бы презирал меня самый презренный из них! И он был бы прав и тысячу раз прав.
— Но полно, так ли? От каприза ли ее я, однако, завишу? — рассуждал он далее, приподымая слегка голову. — Нет; я ей нужен: я ее сообщник, я ее bravo [Убийца (исп.)], ее наемный убийца; она не может без меня обойтись... Не может?.. А почему не может?.. Во мне есть решимость, есть воля, есть характер, — одним словом, во мне есть свойства, на которые она рассчитывает и которых нет у каждого встречного-поперечного... Но разве только один путь, одно средство, которым она может... развенчаться... избавиться от своего супруга... сбыть его и извести. И наконец, что у нее за думы, что у нее за запутанные планы? Просто не разберешь подчас, делает она что или не делает? Одно только мое большое и основательное знание этой женщины ручается мне, что она что-то заводит, — заводит далекое, прочное, что она облагает нас целым лагерем, и именно нас, т. е. всех нас, — не одного Михаила Андреевича, а всех как есть, и меня в том числе, и даже меня, может быть, первого. Какой демон, какая страшная женщина! Я ничего не видал, я не успел опомниться, как она опутала! Страшно представить себе, какая глубокая и в то же время какая скверная для меня разница между тем положением, в каком я виделся с нею там, в губернской гостинице, в первую ночь моего приезда, и теперь... когда она сама меня встречает, сама меня снаряжает наемным Мефистофелем к своему мужу, и между тем обращается со мною как со школьником, как с влюбленным гимназистом! Это черт знает что такое! Она не удостоивает ответа моих попыток узнать, что такое все мы выплясываем по ее дудке! И... посылает меня заказывать фрикандо к обеду. Ее нынешнее обращение со мною ничем не цветнее некогда столь смешной для меня встречи Висленева с его генеральшей, а между тем Висленев — отпетый, патентованный гороховый шут и притча во языцех, а я... во всяком случае человек, над которым никто никогда не смеялся...
Горданов, все красневший по мере развития этих дум, вдруг остановился, усмехнулся и плюнул. Вокруг него трещали экипажи, сновали пешеходы, в воздухе летали хлопья мягкого снегу, а на мокрых ступенях Иверской часовни стояли черные, перемокшие монахини и кланялся народ.
— Как никто? Как никто не смеялся? — мысленно вопрошал себя Горданов и отвечал с иронией: — А Кишенский, а Алинка? Разве не по их милости я разорен и отброшен черт знает на какое расстояние, от исполнения моего вернейшего и блестящего плана? Нет; я только честным людям умею не позволять наступать себе на ногу... я молодец на овец, а на молодца я сам овца... Да, да; меня спутало и погубило это якшанье со всею этой принципною сволочью, которая обворовала меня кругом... Но ничего, друзья, ничего. Палача, прежде чем сделать палачом, тоже пороли, — выпороли и вы меня, и еще до сих пор все порете; но уж зато как я оттерплюсь, да вас вздую, так вам небо покажется с баранью овчинку!
Павел Николаевич крякнул, повернувшись спиной к Иверской часовне, и, перейдя площадь, зашел в Гуринский трактир, уселся к столику и спросил себе чаю.
— Да; к черту все это! — думал он, — нечего себя обольщать, но нечего и робеть. Глафира, черт ее знает, она, кажется, несомненно умнее меня, да и потом у нее в руках вся сила. Я уже сделал промах, страшный промах, когда я по одному ее слову решился рвать всем носы в этом пошлом городишке! Глупец, я взялся за роль страшного и непобедимого силача с пустыми пятью-шестью тысячами рублей, которые она мне сунула, как будто я не мог и не должен был предвидеть, что этим широким разгоном моей бравурной репутации на малые средства она берет меня в свои лапы; что, издержав эти деньги, — как это и случилось теперь, — я должен шлепнуться со всей высоты моего аршинного величия? А вот же я этого не видел; вот же я... я... умник Горданов, этого не предусмотрел! Правду говорят: кто поучает женщину, тот готовит на себя палку... И еще я имел глупость час тому назад лютовать! И еще я готов был изыскивать средство дать ей отпор... возмутиться... Против кого? Против нее, против единственного лица, держась за которое я должен выплыть на берег! И из-за чего я хотел возмутиться? Из-за самолюбия, оскорблений которого никто не видит, между тем как я могу быть вынужден переносить не такие оскорбления на виду у целого света? Разве же не чистейшая это гиль теперь мое достоинство? А ну его к дьяволу! Смирюсь, смирю себя пред нею, до чего она хочет: снесу от нее все! Пусть это будет мой самый трудный экзамен в борьбе за существование, и я должен его выдержать, если не хочу погибнуть, — и я не погибну. Она увидит, велика ли была ее проницательность, когда она располагала на мою «каторжную честность». Нет, дружок: a la guerre comme a la guerre [На войне как на войне (фр.)]. Хитра ты, да ведь и я не промах: любуйся же теперь моей несмелостию и смирением: богатство и власть над Ларисой стоят того, чтобы мне еще потерпеть горя, но раз, что кончим мы с Бодростиным и ты будешь моя жена, а Лариса будет моя невольница... моя рыдающая Агарь... а я тебя... в бараний рог согну!..
И с этим Горданов опять встал, бросил на стол деньги за чай и ушел.
«Вот только одно бы мне еще узнать, — думал он, едучи на извозчике. — Любит она меня хоть капельку или не любит? Ну, да и прекрасно; нынче мы с нею все время будем одни... Не все же она будет тонировать да писать, авось и иное что будет?.. Да что же вправду, ведь женщина же она и человек!.. Ведь я же знаю, что кровь, а не вода течет в ней... Ну, ну, постой-ка, что ты заговоришь пред нашим смиренством... Эх, где ты мать черная немочь с лихорадушкой?»
Глава седьмая. Черная немочь.
На дворе уже по-осеннему стемнело и был час обеда, к которому Глафира Васильевна ждала Горданова, полулежа с книгой на небольшом диванчике пред сервированным и освещенным двумя жирандолями столом.
Горданов вошел и тихо снял свое верхнее платье. Глафира взглянула на его прояснившееся лицо и в ту же минуту поняла, что Павел Николаевич обдумал свое положение, взвесил все pro и contra и решился не замечать ее первенства и господства, и она его за это похвалила.
«Умный человек! — мелькнуло в ее голове. — Что хотите, а с таким человеком все легче делается, чем с межеумком», — и она ласково позвала Горданова к столу, усердно его угощала и даже обмолвилась с ним на «ты».
— Кушай хорошенько, — сказала она, — на хлеб, на соль умные люди не дуются. Знаешь пословицу: губа толще, брюхо тоньше, — а ты и так не жирен. Ешь вот эту штучку, — угощала она, подвигая Горданову фрикасе из маленьких пичужек, — я это нарочно для тебя заказала, зная, что это твое любимое.
Горданов тоже уразумел, что Глафира поняла его и одобрила, и ласкает как покорившегося ребенка. Он уразумел и то, что этой покорностью он еще раз капитулировал, но он уже решился довершить в смирении свою «борьбу за существование» и не стоял ни за что.
— Вот видишь ли, Павел, как только ты вырвался от дураков и побыл час один сам с собою, у тебя даже вид сделался умней, — заговорила Бодростина, оставшись одна с Гордановым за десертом. — Теперь я опять на тебя надеюсь и полагаюсь.
— А то ты уже было перестала и надеяться?
— Я даже отчаялась.
— Я не понимал твоих требований и только, но я буду рад, если ты мне теперь расскажешь, чем ты мною недовольна? Ведь ты мною недовольна?
— Да.
— За что?
— Спроси свою совесть! — отвечала, глядя на носок своей туфли, Глафира.
Горданов просиял; он услышал в этих словах укоризну ревности и, тихо встав со своего места, подошел к Глафире и, наклонясь, поцеловал ее лежавшую на коленях руку.
Она этому не мешала.
— Глафира! — позвал Горданов.
Ответа не было.
— Глафира! Радость моя! Мое счастье, откликнись же!.. дай мне услышать твое слово!
— Радость твоя не Глафира.
— Нет? Что ты сказала? Разве не ты моя радость?
— Нет.
— Нет? Так скажи же мне прямо, Глафира; ты можешь что-нибудь сказать прямо?
— Что за вопрос! Разумеется, я вам могу и смею все говорить прямо.
— Без шуток?
— Спрашивай и увидишь.
— Ты хочешь быть моей женой?
— Н... н... ну, а как тебе это кажется?
— Мне кажется, что нет. Что ты на это скажешь?
— Ничего.
— Это разве ответ?
— Разумеется, и самый искренний... Я не знаю, что ты для меня сделаешь.
Горданов сел у ее ног и, взяв в свои руки руку Глафиры, прошептал, глядя ей в глаза:
— А если я сделаю все... тогда?
— Тогда?.. Я тоже сделаю все.
— То есть что же именно ты сделаешь?
— Все, что будет в моих силах.
— Ты будешь тогда моею женой?
Глафира наклонила молча голову.
— Что же это значит: да или нет?
— Да, и это может случиться, — уронила она улыбаясь.
— Может случиться!.. Здесь случай не должен иметь места!
— Он имеет место повсюду.
— Где нет воли.
— И где она есть.
— Это вздор.
— Это высшая правда.
— Высшая?.. В каком это смысле: в чрезвычайном, может быть, в сверхъестественном?
— Может быть.
— Скажи, пожалуйста, ясней! Мы не ребята, чтобы сверхъестественностями заниматься. Кто может тебе помешать быть моею женой, когда мы покончим с Бодростиным?
— Тс!.. Тише!
— Ничего: мы здесь одни. Ну говори: кто, кто?
— Почем я знаю, что и кто? Да и к чему ты хочешь слов?
Она положила ему на лоб свою руку и, поправляя пальцем набежавший вперед локон волос, прошептала:
— Да... вот мы и одни... «какое счастье: ночь и мы одни». Чьи это стихи?
— Фета; но не в этом дело, а говори мне прямо, кто и что может мешать тебе выйти за меня замуж, когда не будет твоего мужа?
— Тсс!
Глафира быстро откинулась назад к спинке дивана и сказала:
— Ты глуп, если позволяешь себе так часто повторять это слово.
— Но мы одни.
— Одни!.. Во сне не бредь о том, чем занят, — кикимора услышит.
— Я не боюсь кикиморы; я не суевер.
— Ну, так я суеверка и прошу не говорить со мной иначе как с суеверкой.
— Ага, ты меня отводишь от прямого ответа; но это тебе не удастся.
— Отчего же? — И Глафира тихо улыбнулась.
— Оттого, что я не такой вздорный человек, чтобы меня можно было втравить в спор о вере или безверии, о Боге или о демоне: верь или не верь в них, — мне это все равно, но отвечай мне ясно и положительно: кто и что тебе может помешать быть моею женой, когда... когда Бодростина не будет в живых.
— Совесть: я никогда не захочу расстроивать чужого счастья.
— Чьего счастья? Что за вздор.
— Счастья бедной Лары.
— Ты лжешь; ты знаешь, что я не думаю на ней жениться и не женюсь.
— А, жаль, она глупа и будет верною женой.
— Мне это все равно, ты не заговоришь меня ни Ларой и ничем на свете; дай мне ответ, что может помешать тебе быть моею женой; и тогда я отстану!.. А, а! ты молчишь, ты не знаешь, куда еще увильнуть! Так знай же, что я знаю, кто и что тебе может помешать! Ты любишь! Ты поймана! Ты любишь не меня, а Подозе...
Но Глафира быстрым движением руки захватила ему рот и воскликнула:
— Вы забываетесь, Горданов!
— Да, да, ты можешь делать все, что тебе угодно, но это тебе не поможет; я дал себе слово добиться ответа, кто и что может тебе помешать быть моею женой, и я этого добьюсь. Более: я это проник и почти уже всего добился; твое смущение мне сказало, кто...
— Кто?.. Кто?.. Кто?.. — перебила его речь, проникшаяся вдруг внезапным беспокойством, Глафира. — Ты проникся... ты добился...
И с этими словами она вдруг сделала порывистое движение вперед и, стукнув три раза кряду похолодевшими белыми пальцами в жаркий лоб Горданова, прошептала:
— А кто помешал тебе убить того, кого ты сейчас назвал?
Горданов молчал.
— Что же ты молчишь?
— Что же говорить? Его спас «тик и так»; это редкостнейший случай.
— Редкостный случай? Случай?.. Случай стал между твоею рукой и его беззащитною грудью?..
— Да, «тик и так».
— Да, «тик и так»; это случай? — шептала Бодростина. — Много вы знаете со своим «тик и так».
— А что же, по-твоему, его спасло?
— Я это знаю.
— Так скажи.
— Изволь: уйди-ка вон туда, за ту перегородку, и посмотри в угол.
— Что же я там увижу?
— Не знаю; посмотри, что-нибудь увидишь.
Горданов встал и, заглянув за дверь в полутемную комнату, в которую слабый свет чуть падал через резную кайму ореховой перегородки, сказал:
— Что же там смотреть? платье да тень.
— Что такое: как платье да тень?
— Там платье.
— Какое платье? Там вовсе нет никакого платья. Там образ, и я хотела указать на образ.
— А я там вижу платье, зеленое женское платье.
Бодростина побледнела.
— Ты его видишь и теперь? — спросила она падающим и прерывающимся голосом.
Горданов опять посмотрел и, ответив наскоро: «нет, теперь не вижу», схватил одну жирандоль и вышел с нею в темную комнату.
Угол был пуст, и сверху его на Горданова глядел благой, успокоивающий лик Спасителя. Горданов постоял и затем, возвратясь, сказал, что действительно угол пуст и платья никакого нет.
— Я знаю, знаю, знаю, — прошептала в ответ ему Бодростина, которая сидела, снова прислонясь к спинке дивана, и, глядя вдаль прищуренными глазами, тихо обирала ветку винограда.
Но вдруг, сорвав устами последнюю ягоду с виноградной кисти, она сверкнула на Павла Николаевича гневным взглядом и, заметив его покушение о чем-то ее спросить, простонала:
— Молчи, пожалуйста, молчи! — И с этим нервно кинула ему в лицо оборванную кисть и, упав лицом и грудью на подушку дивана, тихо, но неудержимо зарыдала.
Глава восьмая. Немая исповедь.
Горданов стоял над плачущей Глафирой и, кусая слегка губу, думал: «Ого-го! Куда это, однако, зашло. И корчит, и ломает. О, лукавая! Я дощупался до твоего злого лиха. Но дело, однако, зашло слишком далеко, она его любит не только со всею страстью, к которой она способна, но и со всею сентиментальностью, без которой не обходится любовь подобных ей погулявших барынь. Это надо покончить!» И с этим он сделал шаг к Глафире и коснулся слегка ее локтя, но точас же отскочил, потому что Глафира рванулась, как раненая львица, и, с судорожно подергивающимися щеками, вперив острые, блуждающие глаза в Горданова, заговорила:
— Да, да, да, есть... есть... его нет, но он есть, есть оно...
— О чем ты говоришь?
Глафира не обращала на него внимания и продолжала как бы сама с собой.
— Нет, это нестерпимо! Это несносно! — восклицала она слово от слова все громче и болезненнее, и при этом то ломала свои руки, то, хрустя ими, ударяла себя в грудь, и вдруг, как бы окаменев, заговорила быстрым истерическим шепотом:
— Это зеленое платье... ты видел его, и я его видела... Его нет и оно есть... Это она... я ее знаю, и ты, ты тоже узнаешь, и...
— Кто же это?
— Совесть.
— Успокойся, что с тобою сделалось! Как ты ужасно взволнована!
— Нет, я ничего...
И Бодростина тихо подала Горданову обе свои руки и задумалась и поникла головой, словно забылась. Павел Николаевич подал ей стакан воды, она его спокойно выпила.
— Лучше тебе теперь? — спросил он.
— Да, мне лучше.
Она возвратила Горданову стакан, который тот принял из ее рук, и, поставив его на стол, проговорил:
— Ну и прекрасно, что лучше, но этого, однако, нельзя так оставить; ты больна. И с этим он направился к двери, чтобы позвонить слуге и послать за доктором, но Глафира, заметив его намерение, остановила его.
— Павел! Павел! — позвала она. — Что это? Ты хочешь посылать за доктором? Как это можно! Нет, это все пройдет само собой... Это со мной бывает... Я стала очень нервна и только... Я не знаю, что со мной делается.
— Да, вот и не знаешь, что это делается! Вот вы и все так, подобные барыни: жизни в вас в каждой в одной за десятерых, жизнь борется, бьется, а вы ее в тисках жмете... — заговорил было Горданов, желая прервать поток болезненных мечтаний Бодростиной, но она его сама перебила.
— Тсс!.. Перестань... Какая жизнь и куда ей рваться... Глупость. Совсем не то!
И она опять хрустнула сложенными в воздухе руками, потом ударила ими себя в грудь и снова, задыхаясь, прошептала:
— Дай мне воды... скорей, скорей воды! — И жадно глотая глоток за глотком, она продолжала шепотом: — Бога ради не бойся меня и ничего не пугайся... Не зови никого... не надо чужих... Это пройдет... Мне хуже, если меня боятся... Зачем чужих? Когда мы двое... мы... — При этих словах она сделала усилие улыбнуться и пошутила: «Какое счастье: ночь и мы одни!» Но ее сейчас же снова передернуло, и она зашипела:
— Не мешай мне: я в памяти... я стараюсь... я помню... Ты сказал... это стихотворение Фета... «Ночь и мы одни!» Я помню, там на хуторе у Синтяниной... есть портрет... его замученной жены... Портрет без глаз... Покойницы в таком зеленом платье... какое ты видел... Молчи! молчи! не спорь... покойной мученицы Флоры... Это так нужно... Природа возмущается тем, что я делаю... Горацио! Горацио!.. есть вещи... те, которых нет... Ему, ему он хотел следовать — Горацио! Горацио! — И, повторяя это имя по поводу известного нам письма Подозерова, Глафира вдруг покрылась вся пламенем, и холодные руки ее, тихо лежавшие до сих пор в руках Горданова, задрожали, закорчились и, выскользнув на волю, стиснули его руки и быстро побежали вверх, как пальцы артиста, играющего на флейте.
Глава девятая. Без покаяния.
В комнате царил немой ужас. Руки больной Глафиры дрожа скользили от кистей рук Горданова к его плечам и, то щипля, то скручивая рукава гордановского бархатного пиджака, взбежали вверх до его шеи, а оттуда обе разом упали вниз на лацканы, схватились за них и за петли, а на шипящих и ничего не выговаривающих устах Глафиры появилась тонкая свинцовая полоска мутной пены. Противный и ужасный вид этот невольно отбросил Горданова в сторону. Он отступил шаг назад, но наткнулся сзади на табурет и еще ближе столкнулся лицом с искаженным лицом Глафиры, в руках которой трещали и отрывались все крепче и крепче забираемые ею лацканы его платья. Бодростина вся менялась в лице и, делая неимоверные усилия возобладать над собою, напрасно старалась промолвить какое-то слово. От этих усилий глаза ее, под влиянием ужаса поразившей ее немоты, и вертелись, и словно оборачивались внутрь. Горданов каждое мгновение ждал, что она упадет, но она одолела себя и, сделав над собою последнее отчаянное усилие, одним прыжком перелетела на средину комнаты, но здесь упала на пол с замершими в ее руках лацканами его щегольской бобровой курточки. Свинец с уст ее исчез, и она лежала теперь с закрытыми глазами, стиснув зубы, и тяжело дышала всей грудью.
Горданов бросился в свою комнату, сменил пиджак и позвал девушку и лакея.
Глафиру Васильевну подняли и положили на диван, расшнуровали и прохладили ей голову компрессом. Через несколько минут она пришла в себя и, поводя вокруг глазами, остановила их на Горданове.
Девушка в это мгновение тихо вытянула из ослабевших рук больной лацканы гордановской куртки и осторожно бросила их под стул, откуда лакей также осторожно убрал их далее.
— Воздуху! — прошептала Глафира, остановив на Горданове глаза, наполненные страхом и страданием.
Тот понял и сейчас же распорядился, чтобы была подана коляска. Глафиру Васильевну вывели, усадили среди подушек, укутали ей ноги пледом и повезли, куда попало, по освещенной луной Москве. Рядом с нею сидела горничная из гостиницы, а на передней лавочке — Горданов. Они ездили долго, пока больная почувствовала усталость и позыв ко сну; тогда они вернулись, и Глафира тотчас же легла в постель. Девушка легла у нее в ногах на диванчике.
Горданов спал мертвым сном и очень удивился, когда, проснувшись, услышал спокойный и веселый голос Глафиры, занимавшейся с девушкой своим туалетом.
«Неужто же, — подумал он, — все это вчера было притворство? Одно из двух: или она теперешним весельем маскирует обнаружившуюся вчера свою ужасную болезнь, или она мастерски сыграла со мною новую плутовскую комедию, чтобы заставить меня оттолкнуть Ларису. Сам дьявол ее не разгадает. Она хочет, чтоб я бросил Ларису; будь по ее, я брошу мою Ларку, но брошу для того, чтобы крепче ее взять. Глафира не знает, что мне самому все это как нельзя более на руку».
С этим он оделся, вышел в зал и, написав пять строк к Ларе, положил в незапечатанном конверте в карман и ждал Глафиры.
Предстоящие минуты очень интересовали его: он ждал от Глафиры «презренного металла» и... удостоверения, в какой мере сердце ее занято привязанностью к другому человеку: до того ли это дошло, что он, Горданов, ей уже совсем противен до судорог, или... она его еще может переносить, и он может надеяться быть ее мужем и обладателем как бодростинского состояния, так и красоты Ларисы.
Глава десятая. С толку сбила.
Вчерашней сцены не осталось и следа. Глафира была весела и простосердечна, что чрезвычайно шло ко всему ее живому существу. Когда она хотела быть ласковой, это ей до того удавалось, что обаянию ее подчинялись люди самые к ней нерасположенные, и она это, разумеется, знала. Горданов, расхаживая по зале, слушал, как она расспрашивала девушку о ее семье, о том, где она училась, и пр., и пр. Эти расспросы предлагались таким участливым тоном и в такой мастерской последовательности, что из них составлялась самая нежнейшая музыка, постепенно все сильнее и сильнее захватывавшая сердце слушательницы. С каждою шпилькой, которую девушка, убирая голову Бодростиной, затыкала в ее непокорные волнистые волосы, Глафира пускала ей самый тонкий и болезненно острый укол в сердце, и слушавший всю эту игру Горданов не успел и уследить, как дело дошло до того, что голос девушки начал дрожать на низких нотах: она рассказывала, как она любила и что из той любви вышло... Как он, — этот вековечный он всех милых дев, — бросил ее; как она по нем плакала и убивалась, и как потом явилось оно — также вековечное и неизбежное третье, возникшее от любви двух существ, как это оно было завернуто в пеленку и одеяльце... все чистенькое-пречистенькое... и отнесено в Воспитательный дом с ноготочками, намеченными лаписом, и как этот лапис был съеден светом, и как потом и само оно тоже будет съедено светом и пр., и пр. Одним словом, старая песня, которая, однако, вечно нова и не теряет интереса для своего певца.
Глафира Васильевна очаровывала девушку вниманием к этому рассказу и им же не допускала ее ни до каких речей о своем вчерашнем припадке.
С Гордановым она держалась той же тактики. Выйдя к нему в зал, она его встретила во всеоружии своей сверкающей красоты: подала ему руку и осведомилась, хорошо ли он спал? Он похвалился спокойным и хорошим сном, а она пожаловалась.
— Je n'ai pas ferme l'oeil toute la nuit [Я не сомкнула глаз всю ночь (фр.)], — сказала она, наливая чай.
— Будто! Это досадно, а мы, кажется, вчера пред сном ведь сделали хорошую прогулку.
Бодростина пожала с недоумением плечами и, улыбаясь, отвечала:
— Ну вот подите же: не спала да и только! Верно, оттого, что вы были моим таким близким соседом.
— Не верю!
Глафира сделала кокетливую гримасу.
— Очень жалко, — ответила она, — всем дастся по вере их.
— Но я неверующий.
— Да я не знаю, чему вы тут не верите? что вблизи вас не спится? Вы борец за существование.
— А, вот ты куда метишь?
— Да; но вы, впрочем, правы. Не верьте этому больше, чем всему остальному, а то вы в самом деле возмечтаете, что вы очень большой хищный зверь, тогда как вы даже не мышь. Я спала крепко и пресладко и видела во сне прекрасного человека, который совсем не походил на вас.
— Не оттого ли вы так бодры и прекрасны?
— Вероятно.
Горданов, похлебывая чай, шутя подивился только, что за сравнение к нему применено, что он не зверь и даже не мышь!
— А конечно, — отвечала, зажигая пахитоску, Бодростина, — вы ни сетей не рвете и даже не умеете проникнуть по-мышиному в щелочку, и только бредом о своей Ларисе мешаете спящей в двух шагах от вас женщине забыть о своем соседстве.
— Вот вам письмо к этой Ларисе, — ответил ей на это Горданов и подал конверт.
— На что же мне оно?
— Прочтите.
— Я не желаю быть поверенной чужого чувства.
— Нет, ты прочти, и ты увидишь, что здесь и слова нет о чувствах. Да; я прошу тебя, пожалуйста, прочти.
И он почти насильно всунул ей в руку развернутый листок, на который Глафира бросила нехотя взгляд и прочитала:
«Прошу вас, Лариса Платоновна, не думать, что я бежал из ваших палестин, оскорбленный вашим обращением к Подозерову. Спешу успокоить вас, что я вас никогда не любил, и после того, что было, вы уже ни на что более мне не нужны и не интересны для моей любознательности».
Горданов зорко следил во все это время и за глазами Глафиры, и за всем ее существом, и не проморгнул движения ее бровей и белого мизинца ее руки, который, по мере чтения, все разгибался и, наконец выпрямясь, стал в уровень с устами Павла Николаевича. Горданов схватил этот шаловливый пальчик и, целуя его, спросил:
— Довольна ли ты мною теперь, Глафира?
— Я немножко нездорова, чтобы быть чем-нибудь очень довольною, — отвечала она спокойно, возвращая ему листок, и при этом как бы вдруг вспомнила:
— Нет ли у вас большой фотографии или карточки, снятой с вас вдвоем с женщиной?
— На что бы это вам?
— Мне нужно.
— Не могу этим служить.
— Так послужите. Возьмите Ципри-Кипри... Впрочем, эти одеваться не умеют.
— Да ну их к черту, разве без них мало!
— Именно; возьмите хорошую, но благопристойную...
— Даму из Амстердама, — подсказал Горданов.
Бодростина кинула ему в ответ утвердительный взгляд и в то же время, вынув из бумажника карточку Александры Ивановны Синтяниной, проговорила:
— Во вкусе можете не стесняться — blonde или brune [Блондинка или брюнетка (фр.)] — это все равно; оттуда поза и фигура, а головка отсюда.
Горданов принял карточку и вздохнул.
— Конечно, нужно, чтобы стан как можно более отвечал телу, которое носит эту голову.
— Уж разумеется.
— И поза скромная, а не какая-нибудь, a la черт меня побери.
— Перестань, пожалуйста, меня учить.
— И платье черное, самое простое черное шелковое платье, какое есть непременно у каждой женщины.
— Да знаю же, все это знаю.
— Лишний раз повторить не мешает. И потом, когда дойдет дело до того, чтобы приставить эту головку к корпусу дамы, которая будет в ваших объятиях, надо...
Горданов перебил ее и скороговоркой прочел:
— Надо поручить это дело какому-нибудь темному фотографщику... Найду такого из полячков или жидков.
— И чтобы на обороте карточки не было никакого адреса.
— Ах, какая ты беспокойная, уж об этом они сами побеспокоятся.
— Да, я беспокойна, но это и не мудрено; все это уж слишком долго тянется, — проговорила она с нетерпеливою гримасой.
— Ведь за тобою же дело. Скажи, и давно бы все прикончили, — ответил Горданов.
— Нет; дело не за мной, а за обстоятельствами. Я иду так, как мне следует идти. Поспешить в этом случае значит людей насмешить, а мне нужен свет, и он должен быть на моей стороне.
— Ну черт ли в нем тебе, и вряд ли это можно.
— Нет, извините, мне это нужно, и это можно! Свет не карает преступлений, но требует от них тайны. А впрочем, это уж мое дело.
— Позволь, однако, и мне дать тебе один совет, — заговорил Горданов, потряхивая в руке карточкой Синтяниной. — Ты, разумеется, рассчитываешь что-нибудь поставить на этой фотографии, которую мне заказываешь.
— Еще бы, конечно, мне это нужно не для того, чтобы раздражать мою ревность.
— Да перестань играть словами. А дело вот в чем: это ни к чему не поведет; на этот хрусталь ничто не воздействует.
— Ты бросаешься в игру слов: свет на него не воздействует?
— Не поверят, — отвечал, замотав головой, Горданов.
— Кому? Солнцу не поверят. Оставь со мною споры; ты мелко плаваешь, да и нам остается ровно столько времени, чтобы позавтракать и проститься, условясь кое о чем пред разлукой. Итак, еще раз: понимаешь ли ты, что ты должен делать? Бодростин должен быть весь в руках Казимиры, как Иов в руках сатаны, понимаешь? весь, совершенно весь. Я получила прекрасные вести. Казимира, как настоящая полька, влюбилась наконец в своего санкюлота... скрипача... Она готовилась быть матерью... Этим бесценным случаем мы должны воспользоваться, и это будущее дитя должно быть поставлено на счет Михаилу Андреевичу.
— Но тут... позволь!.. — Горданов рассмеялся и добавил: — в этом твоего мужа не уверишь.
— Почему?
— Почему? Потому что il a au moins soixante dix ans [Ему по меньшей мере семьдесят лет (фр.)].
— Tant mieux, mon cher, tant mieux! C'est un si grand age [Тем лучше, мой дорогой, тем лучше! Это такой преклонный возраст (фр.)], что как не увлечься таким лестным поклепом! Он назовется автором, не бойтесь. Впрочем, и это тоже не ваше дело.
— Да уж... «мои дела», это, я вижу, что-то чернорабочее: делай, что велят, и не смей спрашивать, — сказал, с худо скрываемым неудовольствием, Горданов.
— Это так и следует: мужчины трутни, грубая сила. В улье господствуют бесполые, как я! Твое дело будет только уронить невзначай Казимире сказанную мною мысль о ребенке, а уж она сама ее разыграет, и затем ты мне опять там нужен, потому что когда яичница в шляпе будет приготовлена, тогда вы должны известить меня в Париж, — и вот все, что от вас требуется. Невелика услуга?
— Очень невелика. Но что же требуется? Чтоб он взял к себе этого ребенка, что ли?
— Нимало. Дитя непременно должно быть отдано в Воспитательный дом, и непременно при посредстве моего мужа.
— Ничего не понимаю, — проговорил Горданов.
— Право, не понимаешь?
— Ровно ничего не понимаю.
— Ну, ты золотой человек, лети же мой немой посол и неси мою неписаную грамоту.
Глава одиннадцатая. Бриллиант и янтарь.
Бодростина достала из портфеля пачку ассигнаций и, положив их пред Гордановым, сказала:
— Это тебе на первую жизнь в Петербурге и на первые уплаты по твоим долгам. Когда пришлешь мне фотографию, исполненную, как я велела, тогда получишь вдвое больше.
Горданов взял деньги и поцеловал ее руку. Он был смят и даже покраснел от сознания своего наемничьего положения на мелкие делишки, в значении которых ему даже не дают никакого отчета.
Он даже был жалок, и в его глазах блеснула предательская слеза унижения. Бодростина смотрела на него еще минуту, пока он нарочно долго копался, наклоняясь над своим портфелем, и, наконец встав, подошла к нему и взяла его голову. Горданов наклонился еще ниже. Глафира повернула к себе его лицо и поцеловала его поцелуем долгим и страстным. Он ожил... Но Глафира быстрым движением отбросила от себя обвившие ее руки Горданова и, погрозив ему с улыбкой пальцем, подавила пуговку электрического звонка и сама отошла и стала против зеркала.
Приказав вошедшему на этот зов слуге подать себе счет, Глафира добавила:
— Возьмите, кстати, у барина письмо и опустите его тотчас в ящик. Слуга ответил:
— Слушаю-с.
И, взяв из рук Горданова письмо к Ларе, безмолвно удалился.
Глафира спокойно начала укладывать собственноручно различные мелочи своего дорожного багажа, посоветовав заняться тем же и Горданову.
Затем Бодростина посмотрела поданный ей счет, заплатила деньги и, велев выносить вещи, стала надевать пред зеркалом черную касторовую шляпу с длинным вуалем.
Горданов снарядился и, став сзади ее с дорожной сумкой через плечо, он смотрел на нее сухо и сурово.
Глафире все это было видно в зеркале, и она спросила его:
— О чем ты задумался?
— Я думаю о том, где у иных женщин та женская чувствительность, о которой болтают поэты?
— А некоторые женщины ее берегут.
— Берегут? гм! Для кого же они ее берегут?
— Для избранных.
— Для нескольких?
— Да, понемножку. Ведь ты и многие учили женщин, что всякая исключительная привязанность порабощает свободу, а кто же большой друг свободы, как не мы, несчастные порабощенные вами создания? Идем, однако: наши вещи уже взяты.
И с этим она пошла к двери, а Горданов за нею.
Сбежав на первую террасу лестницы, она полуоборотилась к нему и проговорила с улыбкой:
— Какой мерой человек мерит другому, такой возмерится и ему! — и снова побежала.
— Смотрите, чтоб это не приложилось и к вам, — отвечал вдогонку ей Горданов.
— О-о-о! не беспокойся! Для меня пора исключительных привязанностей прошла.
— Ты лжешь сама себе: в тебе еще целый вулкан жизни.
— А, это другое дело; но про такие серьезные дела, как скрытый во мне «вулкан жизни», мы можем договорить и в карете.
С этим она вступила в экипаж, а за ней и Горданов.
Через полчаса Павел Николаевич, заняв место в первоклассном вагоне Петербургской железной дороги, вышел к перилам, у которых, в ожидании отхода поезда, стояла по другой стороне Бодростина.
Он опять совладал с собой и смирился.
— Ну, еще раз прощай, «вулкан», — сказал он, смеясь и протягивая ей свою руку.
— Только, пожалуйста, не «вулкан», — ответила еще шутливее Глафира. — Вулкан остался там, где ты посеял свой ум... Ничего: авось два вырастут. А ты утешься: скучать не стоит долго по Ларисе, да она и сама скучать не будет долго.
— Ты это почему знаешь?
— Да разве дуры могут долго скучать!
— Она не так глупа, как ты думаешь.
— Нет, она именно так глупа, как я думаю.
— Есть роли в жизни, для выполнения которых ум не требуется.
— Да; только она ни к одной из них негодна.
— Отчего же: очень много недалеких женщин, которые прекрасно составляют счастье мужей.
— Ты прав: великодушные дурочки. Да; это прекрасный сорт женщин, но они редки и она не из них.
— Ну, так из нее может выйти кому-нибудь путная любовница.
— Никогда на свете! Успешное исполнение такой роли требует характера.
— Ну, так в дорогие камелии пригодится.
— О, всего менее! Там нужен... талант! А впрочем, уже недолго ждать: le grand ressort et casse [Воля сломлена (фр.)], как говорят французы: теперь скоро увидим, что она с собой поделает.
Раздался второй звонок.
Горданов протянул на прощанье руку и сказал:
— Ты умна, Глафира, но ты забыла еще один способ любить подобных женщин: с ними надо действовать по романсу: «Тебя томить, тебя терзать, твоим мученьем наслаждаться».
— А ты-таки достоялся здесь предо мной до того, чтобы проговориться, как ты думаешь с ней обойтись. Понимаю, и пусть это послужит тебе объяснением, почему я тебе не доверяюсь; пусть это послужит тебе и уроком, как глупо стараться заявлять свой ум. Но иди, тебя зовут.
Кондуктор действительно стоял возле Горданова и приглашал его в вагон.
Павел Николаевич; стиснул руку Глафиры и шепнул ей:
— Ты бриллиант самых совершеннейших граней!
Бодростина, смеясь, покачала отрицательно головой.
— Что? Разве не бриллиант?
— Я-н-т-а-р-ь! — шепнула она, оглядываясь и слегка надвигая брови над улыбающимся лицом.
— Почему же не бриллиант, почему янтарь? — шептал, выглядывая из вагона, развеселившийся Горданов.
— Потому что в янтаре есть свое постоянное электричество, меж тем как бриллиант, чтобы блеснуть, нуждается в свете... Я полагаю, что это, впрочем, совсем не интересно для того, кого заперли на защелку. Adieu! [Прощайте! (фр.)]
Поезд тронулся и пополз.
— Sans adieu! Sans adieu! Je ne vous dis pas adieu! [Без «прощайте»! Без «прощайте»! Я не прощаюсь с вами! (фр.)] — крикнул, высовываясь назад, Горданов.
Бодростина только махнула ему, смеясь, рукой и в том же самом экипаже, в котором привезли сюда из гостиницы Горданова, отъехала на дебаркадер другой железной дороги. Не тяготясь большим крюком, она избрала окольный путь на запад и покатила к небольшому пограничному городку, на станции которого давно уже обращал на себя всеобщее внимание таинственный господин потерянного вида, встречавший каждый поезд, приезжающий из России.
Господин этот есть не кто иной, как злополучный Иосаф Платонович Висленев, писавший отсюда Горданову под псевдонимом покинутой Эсперансы и уготованный теперь в жертву новым судьбам, ведомым лишь Богу на небе, да на земле грешной рабе его Глафире.
Глава двенадцатая. Указ об отставке.
Мы не погонимся за нашими путешественниками: пусть они теперь едут каждый своим путем-дорогой, пока не достигнут пунктов, на которых должны продолжать свои «предприятия», а сами мы вернемся назад в губернское захолустье, где остались следы сокольего перелета Горданова.
В то самое время, как Павел Николаевич катил на север, соображая: насколько он прочитан Глафирой и насколько он сам мог прочитать ее; в то время, как Глафира несется на запад, лежа в углу спокойного купе, в положении наших провинциальных друзей нарушилась тягостная неподвижность, и первые признаки этого движения были встречены и приняты Ларисой.
Тот короткий осенний день, когда главные наши предприниматели разъехались из Москвы в разные стороны, в покинутой ими провинции рано заключился темными ненастными сумерками. В пять часов после обеда мрачные от сырости дома утопали в серой проницающей мгле. Ветер не дул, не рвал и не свистел, а вертелся и дергался кое-где на одном месте, будто сновал частую основу. Поснует, похлопает ставней, словно бедром, и перелетит дальше, и там постучит, помаячит и опять пошел далее. Крупный мокрый снег то сыпнет, как из рукава, то вдруг поредеет и движется, как скатывающаяся кисея, — точно не то летит сова, не то лунь плывет.
В полутемной комнате, где лежал больной Подозеров, сумерки пали еще ранее: за густыми суконными занавесками, которыми были завешаны окна, свет померк еще ранее. Благодаря защите этих же занавес, здесь не так была слышна и разгулявшаяся на дворе непогода. Напротив, шум непогоды, доходивший сюда смягченным через двойные рамы и закрывающие их волны сукна, навевал нечто успокаивающее и снотворное. Поскрипит, поскрипит тихонько за углом на своих петлях старая решетчатая садовая калитка, крякнет под окном на корне старая яблоня, словно старуха, отбивающаяся от шаловливого внука, — и все затихнет; мокрый ветер уже покинул яблоню и треплет безлиственные прутья березы. Но вот и эта отделалась: ее мокрые голые прутья стегнули по закрытой ставне окна и, опустясь, зашумели; береза точно ворчит во сне, что ей мешают спокойно погрузиться в свою полугодовую спячку, пока затрещит над нею в высоком небе звонкий жаворонок и возвестит, что пора ей проснуться, обливаться молоком с макушки до низу и брызгать соком чрез ароматную почку.
Стоит человеку задремать под этот прибой и отбой стихийных порывов, и его готов осесть целый рой грез, уносящих воображение и память в чудную область мечтаний.
Подозеров почти впервые после разразившейся над ним катастрофы спал приятно и крепко. В убаюканной голове его расчищался понемногу долго густевший туман, и тихое влияние мысли выясняло знакомые облики и проводило их в стройном порядке. Пред ним двигалось детство, переходя, как на туманном стекле панорамы, из картины в картину, и вот она, юность, и вот они, более зрелые годы. Вот наконец и она. В знойном пространстве, на зыбких качелях колеблется Лара... Что хочет сказать ее неразгаданный взгляд? чем дышит эта чудная красота, и что в ней не дышит? Призрак чудесный! и зачем она вправду не призрак? Зачем этот толчок и жгучая боль возле больного сердца? Зачем тонкие, слегка посиневшие веки больного зашевелились, как оживающая весной оса, и медленно ползут кверху? Ему, очевидно, больно. Пробужденные глаза его видят в полумраке закрытой щитком лампады всю укутанную сукном комнату. Ее здесь нет; нет ее, нет и тревог, которые родил этот призрак. Все тихо, как сон в царстве теней... Веет тихим, теплым покоем... Не в этом ли роде нечто будет в тот таинственный миг, когда разрешенный дух, воспрянув в смятении, взлетит над собственным покинутым футляром, и носясь в горе?, остановится над тем, что занимало его на земле? Все это как будто знакомо, все это было тогда, но только не вспомнишь когда. Не вспомнишь причины, почему это так, а не иначе, отчего, например, шатаясь, шевелится эта стена, которою больному представляется сукно, закрывающее дверь. А движение все идет своим чередом. Вот занавеса распахнулась, и из-за нее выступили две тени. У одной из них в руках лампада, закрытая прозрачною ладонью. Что это за виденье? Вот эти тени взошли, остановились, вытянули вперед свои головы и, напрягая зрение, долго и пристально посмотрели на него, и потом неслышной стопой попятились назад и скрылись. Складки сукна снова упали, и опять вокруг густой полумрак. Блуждающий взор больного теперь не различает ничего в темном покое, хотя больной не один здесь, а у него есть очень интересный товарищ: в темном углублении, в головах у него, между окном и высоким массивным комодом, дремлет в мягком кресле Лариса.
Какая чудная поза! Как хороши эти сочетания Греза, в очертании рисунка, и Рембрандта, в туманном колорите! Но больной Подозеров не видит ни черных ресниц, павших на матовые щеки, ни этой дремлющей руки, в которой замерло знакомое нам письмо Горданова, — предательское письмо, писанное в утеху Бодростиной, а также и в других видах, известных лишь самому Горданову. Как могла спать Лариса, только что прочитав такие унизительные для ее самолюбия строки? да и спала ли она? Нет, состояние, в котором она находилась, было не сон. Получив около часу тому назад это письмо, она решилась вскрыть его только здесь, в комнате больного, который теперь казался ей гением-хранителем. Прочитав присланный ей Гордановым короткий и наглый указ об отставке, она уронила голову, уронила руку и потеряла сознание. Было ль жаль его?.. Нет. Любила ль она его?.. Бог весть, но она была сражена тем, что она, — красавица, которая не умела придумать себе достойной цены, — может быть пренебрежена и кинута как негодная и ничего не стоящая вещь! Она чувствовала в случившемся не только обиду, но и живую несообразность, которая требует разъяснения и выхода. Она ждала и жаждала их, и они не замедлили.
Глава тринадцатая. Собака и ее тень.
За стеной, куда скрылись тени, началась шепотом беседа.
— И ты с тем это и пришла сюда, Катя? — внезапно послышалось из-за успокоившихся полос сукна.
Лариса тотчас же узнала голос генеральши Синтяниной.
— Да; я именно с этим пришла, — отвечал ей немножко грубоватый, но искренний голос Форовой, — я давно жду и не дождусь этой благословенной минутки, когда он придет в такой разум, чтоб я могла сказать ему: «прости меня, голубчик Андрюша, я была виновата пред тобою, сама хотела, чтобы ты женился на моей племяннице, ну а теперь каюсь тебе в этом и сама тебя прошу: брось ее, потому что Лариса не стоит путного человека».
— Горячо сказано, Катя.
— Горячо и праведно, моя милая.
— Ну, в таком случае мне остается только порадоваться, что мы с тобой сошлись на его крыльце, что он спит и что ты не можешь исполнить своего намерения.
— Я его непременно исполню, — отвечала Форова.
— Нет, не исполнишь: я уверена, что ты через минуту согласишься, что ты не имеешь никакого права вмешиваться таким образом в их дело.
— Ну, это старая песня; я много слыхала про эти невмешательства и не очень их почитаю. Нет, вмешивайся; если кому желаешь добра, так вмешивайся. А он мне просто жалости достоин.
Слышно было, как Форова сорвала с себя шляпу и бросила ее на стол.
— В этом ты права, — ответила ей тихо Синтянина.
— Да как же не права? Я тебе говорю, сколько я больная лежала да рассуждала про нашу Ларису Платоновну, сколько теперь к мужу в тюрьму, по грязи шлепаю, или когда здесь над больным сижу, — все она у меня из головы не идет: что она такое? Нет, ты расскажи мне, пожалуйста, что она такое?
Синтянина промолчала.
— Молчишь, — нетерпеливо молвила Катерина Астафьевна, — это, мать моя, я и сама умею.
— Она... красавица, — сказала Синтянина.
— То есть писанка, которою цацкаются, да, поцацкавшись, другому отдают как писаное яичко на Велик День.
— Что же это позволяет тебе делать на ее счет такие заключения?
— Из чего я так заключаю?.. А вот из этого письмеца, которое мне какой-то благодетель прислал из Москвы. Возьми-ка его да поди к окну, прочитай.
Синтянина встала и через минуту воскликнула:
— Какая низость!
— Да; вот и рассуждай. Вот тебе и красавица. Гордашка, и тот шлет отказ как шест.
— Анонимное письмо... копия... это все не стоит никакой веры.
— Нет, это верно, да что в самом деле нам себе врать: это так должно быть. Я помню, что встарь говорили: красота без нравов — это приманка без удочки; так оно и есть; подплывает карась, повертится да и уйдет, а там голец толкнется, пескарь губами пошлепает, пока разве какой шершавый ерш хапнет, да уж совсем слопает. Ларка... нет, эта Ларка роковая: твой муж правду говорит, что ее, как калмыцкую лошадь, один калмык переупрямит.
В ответ на это замечание послышался только тихий вздох.
— Да, вот видишь ли, и вздохнула? А хочешь ли я тебе скажу, почему ты вздыхаешь? Потому, что ты сама согласна, что в ней, в нашей прекрасной Ларочке, нет ничего достойного любви или уважения.
Синтянина на это не ответила ни слова, а голова Ларисы судорожно оторвалась от спинки кресла и выдвинулась вперед с гневным взором и расширяющимися ноздрями.
Форова не прерывала нити занимающих ее мыслей и продолжала свой разговор.
— Нет, ты не отмалчивайся, — говорила она, — мы здесь одни, нас двух никто третий здесь не слышит, и я у тебя настоятельно спрашиваю: что же, уважаешь разве ты Ларису?
— Уважаю, — решительно ответила Синтянина.
— Лжешь! Ты честная женщина, ты никого не погубила и потому не можешь уважать такую метелицу.
— Она метелица, это правда, но это все оттого только, что она капризна, — отвечала генеральша.
— Да вот изволишь видеть: она только капризна, да пустоголова, а то всем бы взяла.
— Ну извини: у нее есть ум.
— Необыкновенно как умна! Цены себе даже не сложит, колочка не выберет, на какой бы себя повесить! И то бы ей хорошо, а это еще лучше того, ступит шаг да оглянется, пойдет вперед и опять воротится.
— Все это значит только то, что у нее беспокойное воображение.
— Ну, вот выдумай еще теперь беспокойное воображение! Все что-нибудь виновато, только не она сама! А я вам доложу-с одно, дорогая моя Александра Ивановна, что как вы этого не называйте, — каприз ли это или по-новому беспокойное воображение, а с этим жить нельзя!
Генеральша пожала плечами и отвечала:
— Однако же люди живут с женщинами капризными.
— Живут-с? Да, с ними живут и маются и век свой губят. Из человека сила-богатырь вышел бы, а кисейный рукав его на ветер пустит, и ученые люди вроде вас это оправдывают. «Женщина, женщина!» говорят. «Женщины несчастные, их надо во всем оправдывать».
— Я не оправдываю ни женщин, ни Ларисы, и, пожалуйста, прошу тебя, не считай меня женским адвокатом; бывают виноватые женщины, есть виноватые мужчины.
— Как же вы не оправдываете Ларису, когда вы ее даже уважаете? — настаивала майорша.
— Я в Ларисе уважаю то, что заслуживает уважения.
— Что же-с это, что, позвольте узнать? Что же вы в ней уважаете?
— Она строгая, честная девушка.
— Что-с?
— Она строгая к себе девушка; девушка честная, не болтушка, не сплетница; любит дом, любит чтение и беседу умных людей. А все остальное... от этого ей одной худо.
— Она строгая девушка? Она честная? Поздравляю!
— Разве ты о ней каким-нибудь образом узнала что-нибудь нехорошее?
— Нет, образом я ничего не узнала, а меня это как поленом в лоб свистнуло... но только нечего про это, нечего... А я сказала, что не хочу, чтоб Андрей Иванович принимал как святыню ее, обцелованную мерзкими губами; я этого не хочу и не хочу, и так сделаю.
Разгорячившаяся Форова забылась и громко хлопнула по столу ладонью.
— Да! — подтвердила она, — я так сделаю: дрянь ее бросила, а хорошему я не дам с ней обручиться.
— Дрянь бросила, а хороший поднимет, — проговорила Синтянина. — Это так нередко бывает, моя Катя.
— Ну бывает или не бывает, а на этот раз так не будет! Клянусь Богом, мужем моим, всем на свете клянусь: этого не будет! Подыми только его Господь, а уж тогда я сама, я все ему открою, и он ее бросит.
— Как же ты можешь за это ручаться? Ну, ты скажешь ему, что она капризница, но большею частью все хорошенькие женщины капризны.
— Нет, я и другое еще скажу.
— Ну... ты, положим, скажешь, что она кого-то когда-то поцеловала, что ли... — произнесла, несколько затрудняясь, генеральша, — но что же из этого?
— Так это ничего! Так это, по-твоему, ничего? Ну, не ожидала, чтобы ты, ты, строгая, чистая женщина, девушкам ночные поцелуи с мерзавцами советовала.
— Я и никогда этого не советовала, но скажу, что это бывает.
— И что это ничего?
— Почти. Спроси, пожалуйста, по совести всех дам, не случалось ли им поцеловать мужчину до замужества, и ручаюсь, что редкой этого не случалось; а между тем это не помешало многим из них быть потом и очень хорошими женами и матерями.
— Ну, а я говорю, что она не будет ни хорошей женой, ни хорошей матерью; мне это сердце мое сказало, да и я знаю, что Подозеров сам не станет по-твоему рассуждать. Я видела, как он смотрел на нее, когда был у тебя в последний раз пред дуэлью.
— Как он на нее смотрел? Я ничего особенного не видала.
— Именно особенно: совсем не так, как глядел на нее прежде. Бровки-то с губками, видно, уже наприторели, а живая душа за душу потянула.
— Что это?.. другая любовь, что ли?
— Да-с.
— Это любопытно, — уронила с легким смущением в голосе генеральша.
— А ты не любопытствуй, а то я ведь, пожалуй, и скажу.
— Пожалуйста, пожалуйста, скажи.
— Да ты же сама эта живая душа, вот кто!
— Ну ты, Катерина, в самом деле с ума сходишь.
— Нимало не схожу: ты его любишь, и он к тебе тоже всей душой потянулся, и, придет время, дотянется.
Генеральша еще более смущенным голосом спросила:
— Что за вздор такой, как это он — дотянется?
— Да отчего ж нет? Ты молода, ему тридцать пять лет, а мужу твоему дважды тридцать пять, да еще не с хвостиком ли? Иван Демьянович умрет, а ты за Андрюшу замуж выйдешь. Вот и весь сказ. Не желаешь, чтобы так было?
Послышался шорох, и две женские фигуры в обеих смежных комнатах встали и двинулись: Лариса скользнула к кровати Подозерова и положила свою трепещущую руку на изголовье больного, а Александра Ивановна сделала шаг на середину комнаты и, сжав на груди руки, произнесла:
— Нет, нет, ты лжешь! Видит Бог мое сердце, я не желаю смерти моему мужу! Я желаю ему выздоровления, жизни, покоя и примирения со всем, пред чем он не прав. И это так и будет: доктор сегодня сказал, что Иван Демьянович уже положительно вне всякой опасности, и мы поедем в Петербург; там вынут его пулю, и он будет здоров.
— Да, да, все это вы сделаете, а все-таки будет так, как я сказала: старому гнить, а молодым жить. Ты этого не хочешь, но тебе это желается; оно так и выйдет.
При этих новых словах Форовой фигура генеральши, обрисовавшаяся темным силуэтом на сером фоне густых сумерок, поднялась с дивана и медленно повернулась.
— Катя! это уже наконец жестоко! — проговорила она и, закрыв рукой лицо, отошла к стене. Она как бы чего оробела, и на веках ее глаз повисли слезы.
В это же самое мгновенье, в другой комнате, Лара, упершись одною рукой в бледный лоб Подозерова и поднимая тоненьким пальцем его зеницы, другою крепко сжала его руку и, глядя перепуганным взглядом в расширенные зрачки больного, шептала:
— Встаньте, встаньте же, встаньте! Проснитесь... я люблю вас!
Лариса должна была несколько раз кряду повторить свое признание, прежде чем обнаружилось хотя слабое действие того волшебства, на которое она рассчитывала. Но она так настойчиво теребила больного, что в его глазах наконец блеснула слабая искра сознания, и он вышел из своего окаменелого бесчувствия.
— Слышите ли вы, слышите ли, что я говорю вам? — добивалась шепотом Лара, во всю свою силу сжимая руку больного и удерживая пальцами другой руки веки его глаз.
— Слы...ш...ш...ш...у! — тихо протянул Подозеров.
— Узнаете ли вы меня?
— Уз...на...ю.
— Назовите же меня, назовите: кто я?
— Вы?..
Больной вдруг вперил глаза в лицо Лары и после долгого соображения ответил:
— Вы не она.
Лариса выбросила из своих рук его руку, выпрямилась и, закусив нижнюю губку, мысленно послала не ему, а многим другим одно общее проклятие, большая доля которого без раздела досталась генеральше.
Глава четырнадцатая. Раненого берут в плен.
Описанная неожиданная сцена между Ларисой и Подозеровым произошла очень быстро и тихо, но тем не менее, нарушив безмолвие, царившее во все это время покоя больного, она не могла утаиться от двух женщин, присутствовавших в другой комнате, если бы внимание их в эти минуты не было в сильнейшей степени отвлечено другою неожиданностью, которая, в свою очередь, не обратила на себя внимания Ларисы и Подозерова только потому, что первая была слишком занята своими мыслями, а второй был еще слишком слаб для того, чтобы соображать разом, что делается здесь и там в одно и то же время.
Дело в том, что прежде чем Лара приступила к Подозерову с решительным словом, на крыльце деревянного домика, занимаемого Андреем Ивановичем, послышались тяжелые шаги, и в тот момент, когда взволнованная генеральша отошла к стене, в темной передней показалась еще новая фигура, которой нельзя было ясно разглядеть, но которую сердце майорши назвало ей по имени.
Катерина Астафьевна, воззрясь в темноту, вдруг позабыла всякую осторожность, требуемую близостью больного и, отчаянно взвизгнув, кинулась вперед, обхватила вошедшую темную массу руками и замерла на ней.
Генеральша торопливо оправилась и зажгла спичкой свечу. Огонь осветил пред нею обросшую косматую фигуру майора Филетера Форова, к которому в исступлении самых смешанных чувств ужаса, радости и восторга, припала полновесная Катерина Астафьевна. Увидев при огне лицо мужа, майорша только откинула назад голову и, не выпуская майора из рук, закричала: «Фор! Фор! ты ли это, мой Фор!» — и начала покрывать поцелуями его сильно поседевшую голову и мокрое от дождя и снега лицо.
— Ты это? Ты? Говори же мне, ты или нет? — добивалась она, разделяя каждое слово поцелуем, улыбкой и слезами.
— Ну вот тебе на! Я или нет? Разумеется, я, — отвечал майор.
— Господи! Я глазам своим не верю, что это ты!
— Ну так поверь.
Майорша не отвечала: она действительно, как бы не доверяя ни зрению своему, ни слуху, ни осязанию, жалась к мужу, давила его плечи своими локтями и судорожно ерошила и сжимала в дрожащих руках его седые волосы и обросшую в остроге бороду.
— Откуда же ты, да говори же скорее: убежал?.. Я тебя скрою...
— Ничуть я не убежал, и нечего тебе меня скрывать. Здравствуйте, Александра Ивановна!
Генеральша отвечала пожатием руки на его приветствие и со своей стороны спросила:
— Как это вы, Филетер Иванович?
— А очень просто: сначала на цепь посадили, а нынче спустили с цепи, — только и всего. Следствие затянулось; Горданов с поручительством уехал, и меня, в сравнение со сверстниками, на поруки выпустили. Спасибо господину Горданову!
— Да, спасибо ему, разбойнику, спасибо! Но что же мы стоим? Иди же, дружочек, садись и расскажи, как ты пришел... Только тихо говори, бедный. Андрюша чуть жив.
— Пришел я очень просто: своими ногами, а Андрей Иванович где же лежит?
— Туг за стеной. Тише, он теперь спит, а мы с Сашутой тут и сидели... Ее Ивану Демьянычу, знаешь, тоже легче... да; Саша повезет его весной в Петербург, чтоб у нею вынули пулю. Не хочешь ли чаю?
— Ничего, можно и чаю; я там привык эту дрянь пить.
— Садись же, а я скажу человеку, чтобы поставил самовар. Ты ведь не заходил домой... ты прямо?..
— Прямо, прямо из острога, — отвечал майор, усаживаясь рядом с Синтяниной на диване и принимаясь за сооружение себе своей обычной толстой папиросы.
— Я боялся идти домой, — заговорил он, обратясь к генеральше, когда жена его вышла. — Думал: войду в сумерках, застану одну Торочку: она, бедное творенье, перепугается, — и пошел к вам; а у вас говорят, что вы здесь, да вот как раз на нее и напал. Хотел было ей башмаки купить, да лавки заперты. А что, где теперь Лариса Платоновна?
— Она, верно, дома.
— Нет, я был у нее; ее дома нет. Я заходил к ней, чтобы занять пять целковых для своего поручителя, да не нашел ее и отдал ему с шеи золотой крест, который мне Торочка в остроге повесила. Вы ей не говорите, а то обидится.
— А кто же за вас поручился? Впрочем, что я спрашиваю: конечно, друг ваш, отец Евангел.
— А вот же и не отец Евангел: зачем бы я Евангелу крест отдал?
— И правда: я вздор сказала.
— Да, кажется, что так. Нет, за меня не Евангел поручился, а целовальник Берко. Друг мой отец Евангел агитатор и сам под судом, а следовательно, доверия не заслуживает. Другое дело жид Берко; он «цестный еврей». Но все дело не в том, а что я такое вижу... тс!.. тс!.. тише.
Синтянина взглянула по направлению, по которому глядел в окно майор, и глазам ее представилась огненная звездочка. Еще мгновение, и эта звездочка вдруг красным зайцем перебежала по соседской крыше и закурилась дымом.
— Пожар! по соседству пожар, у соседей! — задыхаясь, прошептала, вбегая, Форова.
Майор, жена его и генеральша выбежали на крыльцо и убедились, что действительно в двух шагах начинался пожар и что огонь через несколько минут угрожал неминуемою опасностью квартире Подозерова. Больного надо было спасать: надо было его взять и перенести, но куда? вот вопрос. Неужто в гостиницу? Но в гостиницах так беспокойно и бесприютно. К Форовым? но это далеко, и потом у них тоже не Бог весть какие поместительные чертоги... К Синтяниным?.. У тех, разумеется, есть помещение, но генерал Иван Демьяныч сам очень слаб, и хотя он давно привык верить жене и нечего за нее опасаться, однако же он подозрителен, ревнив; старые страсти могут зашевелиться. Это промелькнуло в голове генеральши одновременно с мыслью взять к себе больного, и промелькнуло особенно ясно потому, что недавние намеки насчет ее чувства к Подозерову были так живы и, к крайнему ее стыду, к крайней досаде ее, не совсем безосновательны.
«Вот и казнь! — подумала она. — Вот и начинается казнь! Над чем бы я прежде не остановилась ни одного мгновения, над тем я теперь размышляю даже тогда, когда дело идет о спасении человека...»
Но пока генеральша предавалась этим размышлениям, на дворе и на улице закипела уже пожарная суматоха, и через минуту она должна была неизбежно достичь до ушей больного и перепугать, а может быть, и убить его своею внезапностью. Настала крайняя необходимость сейчас же решиться, что предпринять к его спасению, — а между тем все только ахали и охали. Катерина Астафьевна бросалась то на огород, то за ворота, крича: «Ах, Господи, ах, Николай угодник, что делать?» Синтянина же, решив взять ни на что несмотря больного к себе, побежала в кухню искать слугу Подозерова, а когда обе эти женщины снова столкнулись друг с другом, вбегая на крыльцо, вопрос уже был решен без всякого их участия. Они в сенях встретили Форова, который осторожно нес на руках человека, укутанного в долгорунную баранью шубу майора, а Лариса поддерживала ноги больного и прикрывала от ветра его истощенное тело. О том, кто эта ноша — нечего было спрашивать. Катерина Астафьевна и Синтянина только воскликнули в один голос: «куда вы это?» — на что Лара, не оборачиваясь к ним, ответила: «ко мне», — и эффектное перенесение шло далее, по ярко освещенному двору, по озаренным заревом улицам, мимо людей толпящихся, осуждающих, рассуждающих и не рассуждающих.
Синтянина и Форова последовали за Ларой и майором. Когда больного положили в кабинете отсутствующего Жозефа Висленева, Филетер Иванович поспешил опять на пожар и, найдя помощников, энергически принялся спасать подозеровские пожитки, перетаскивая их на висленевский двор. К утру все это было окончено, и хотя квартира Подозерова не сгорела, а только несколько потерпела от пожарного переполоха, но возвратиться в нее было ему неудобно, пока ее снова приведут в порядок; а тем временем обнаружились и другие препятствия, состоявшие главным образом в том, что Лара не хотела этого возвращения. Она дала это понять всем к ней близким в тот же самый вечер, как Подозеров был положен в кабинете ее брата.
Лара вдруг обнаружила быстрейшую распорядительность: она, с помощью двух слуг и Катерины Астафьевны с генеральшей, в несколько минут обратила комнату брата в удобное помещение для больного и, позвав врача, пользовавшего Подозерова, объявила Форовой и Синтяниной, что больной требует покоя и должен остаться исключительно на одних ее попечениях.
Генеральша и майорша переглянулись.
— Мы, значит, теперь здесь лишние? — спросила Катерина Астафьевна.
— Да, вам, тетя, хорошо бы посмотреть, что там... делается с его вещами, а здесь я сама со всем управлюсь, — спокойно отвечала Лара и ушла доканчивать свои распоряжения.
Форова и Синтянина остались вдвоем в пустой зале.
— Что же? Это значит раненый теперь в плен взят, что ли? — молвила майорша.
Синтянина в ответ на это только пожала плечами, и обе эти женщины молча пошли по домам, оставив Ларису полною госпожой ее пленника и властительницей его живота и смерти.
Глава пятнадцатая. Роза из сугроба.
Больной оставался там, где его положили; время шло, и Лариса делала свое дело.
Чуть только Подозеров, получивши облегчение, начал снова явно понимать свое положение, Лара, строго удалявшая от больного всех и особенно Синтянину, открыла ему тайну унижения, претерпенного ею от Горданова.
Это было вечером, один на один: Лариса открыла Испанскому Дворянину все предшествовавшее получению от Павла Николаевича оскорбительного письма. При этом рассказе Ларису, конечно, нельзя было бы упрекнуть в особенной откровенности, — нет, она многое утаивала и совсем скрыла подробности поцелуя, данного ею Павлу Николаевичу на окне своей спальни; но чем неоткровеннее она была по отношению к себе, тем резче и бесповоднее выходила наглость Горданова, а Подозеров был склонен верить на этот счет очень многому, и он, действительно, верил всему, что ему говорила Лариса. Когда последняя подала ему известное нам письмо Горданова, Подозеров, пробежав его, содрогнулся, откинул далеко от себя листок и проговорил:
— Я только одного не постигаю, как такой поступок до сих пор не наказан!
И Подозеров начал тихо вытирать платком свои бледные руки, в которых за минуту держал гордановское письмо.
— Кто же может его наказать? — молвила потерянно Лариса.
— Тот, кто имеет законное право за вас вступаться, — ваш брат Жозеф. Это его обязанность... по крайней мере до сих пор у вас нет другого защитника.
— Мой брат... где он? Мы не знаем, где он, и к тому... эта история с портфелем...
Подозеров поглядел на Ларису и, поправясь на изголовье, ответил:
— Так вот в чем дело! Он не смеет?
— Да; я совершенно беспомощна, беззащитна и... у меня даже не может быть другого защитника, — хотела досказать Лара, но Подозеров понял ее и избавил от труда досказать это.
— Говорите, пожалуйста: чего вы еще боитесь, что еще вам угрожает?
— Я вся кругом обобрана... я нищая.
— Ах это!.. да разве уже срок закладной дома минул?
— Да, и этот дом уже больше не мой; он будет продан, а я, как видите, — оболгана, поругана и обесчещена.
Лариса заплакала, склоня свою фарфоровую голову на белую ручку, по которой сбегал, извиваясь, как змея, черный локон.
Подозеров молча глядел несколько времени и наконец сказал даже:
— Что же теперь делать?
— Не знаю; я все потеряла, все... все... состояние, друзей и доброе имя.
— И отчего я здесь у вас не вижу... ни Катерины Астафьевны, ни майора, ни Синтяниной?
— Тетушке из Москвы прислали копию с этого письма; она всему верит и презирает меня.
— Боже! какой страшный мерзавец этот Горданов! Но будто уже это письмо могло влиять на Катерину Астафьевну и на других?
Лариса вместо ответа только хрустнула руками и прошептала:
— Я пойду в монастырь.
— Что такое? — переспросил ее изумленный Подозеров и, получив от нее подтверждение, что она непременно пойдет в монастырь, не возразил ей ни одного слова.
Наступила долгая пауза: Лариса плакала, Подозеров думал. Мысль Лары о монастыре подействовала на него чрезвычайно странно. Пред ним точно вдруг разогнулась страница одного из тех старинных романов, к которым Висленев намеревался обратиться за усвоением себе манер и приемов, сколько-нибудь пригодных для житья в обществе благопристойных женщин. В памяти Подозерова промелькнули «Чернец» и «Таинственная монахиня» и «Тайны Донаретского аббатства», и вслед за тем вечер на Синтянинском хуторе, когда отец Евангел читал наизусть на непередаваемом французском языке стихи давно забытого французского поэта Климента Маро, оканчивающиеся строфой:
«Ainsi retournement humain se fait».
И Подозерову стало дико. Неужели в самом деле колесо совсем перевернулось, и начинается сначала?.. Но когда же все это случилось и как? Неужели это произошло во время его тяжкой борьбы между жизнию и смертию? Нет; это стряслось не вдруг; это шло чередом и полосой; мы сами только этого не замечали, и ныне дивимся, что общего между прошлым тех героинь, которые замыкались в монастыри, и прошлым сверстниц Лары, получивших более или менее невнятные уроки в словах пророков новизны и в примерах, ненадолго опередивших их мечтательниц, кинутых на распутье жизни с их обманутыми надеждами и упованиями? Да; есть, однако же, между ними нечто общее, есть даже много общего: как преподаваемые встарь уроки «бабушек» проходили без проникновения в жизнь, так прошли по верхам и позднейшие уроки новых внушителей. По заслугам опороченное, недавнее юродство отрицательниц было выставлено пугалом для начинающих жить юношей и юниц последнего пятилетия, но в противовес ему не дано никакого живого идеала, способного возвысить молодую душу над уровнем вседневных столкновений теории и житейской практики. Как панацея от всех бед и неурядиц ставилась «бабушкина мораль», и к ней оборотили свои насупленные и недовольные лики юные внучки, с трепетом отрекшиеся от ужаснувшего их движения «бесповоротных» жриц недавно отошедшего или только отходящего культа; но этот поворот был не поворот по убеждению в превосходстве иной морали, а робкое пяченье назад с протестом к тому, что покинуто, и тайным презрением к тому, куда направилось отступление. Из отречения от недавних, ныне самих себя отрицающих отрицателей, при полном отсутствии всякого иного свежего и положительного идеала, вышло только новое, полнейшее отрицание: отрицание идеалов и отрицание отрицания. В жизни явились люди без прошлого и без всяких, хотя смутно определенных стремлений в будущем. Мужчины из числа этих перевертней, выбираясь из нового хаоса, ударились по пути иезуитского предательства. Коварство они возвели в добродетель, которою кичились и кичатся до сего дня, не краснея и не совестясь. Религия, школа, самое чувство любви к родине, — все это вдруг сделалось предметом самой бессовестной эксплуатации. Женщины пошли по их стопам и даже обогнали их: вчерашние отрицательницы брака не пренебрегали никакими средствами обеспечить себя работником в лице мужа и влекли с собою неосторожных юношей к алтарю отрицаемой ими церкви. Этому изыскивались оправдания. Браки заключались для более удобного вступления в бесконечные новые браки. Затем посыпались, как из рога изобилия, просьбы о разводах и самые алчные иски на мужей... Все это шло быстро, с наглостию почти изумительною, и последняя вещь становилась горше первой.
В этой суматохе от толпы новых лицемеров отделялся еще новейший ассортимент, который не знаем как и назвать. Эти гнушались, ренегатством, признали за собою превосходство как пред погибающими, или уже погибшими откровенными отрицательницами, так и пред коварницами новейшего пошиба; но сами не могли избрать себе никакого неосудимого призвания. В своем шатании они обрели себя чуждыми всем и даже самим себе, и наибольшее их несчастие в том, что они чаще всего не сознают этой отчужденности до самых роковых минут в своей жизни. Они не знают, к чему они способны, куда бы хотели и чего бы хотели.
Красавица Лариса была из числа этих обреченных на несносное страдание существ последней культуры. Выросши на глазах заботливой, но слабой и недальновидной матери, Лариса выслушала от брата и его друзей самые суровые осуждения старой «бабушкиной морали», которой так или иначе держалось общество до проповедания учений, осмеявших эту старую мораль, и она охотно осудила эту мораль, но потом еще охотнее осудила и учения, склонявшие ее к первым осуждениям. Отбросив одно за другим, и то и другое, она осталась сама ни при чем, и так и жила, много читая, много слушая, но не симпатизируя ничему.
«У нее нет ничего, — решил, глядя на нее, Подозеров. — Она не обрежет волос, не забредит коммуной, не откроет швейной: все это для нее пустяки и утопия; но она и не склонит колена у алтаря и не помирится со скромною ролью простой, доброй семьянинки. К чему ей прилепиться и чем ей стать? Ей нечем жить, ей не к чему стремиться, а между тем девичья пора уходит, и особенно теперь, после огласки этой гнусной истории, не сладко ей, бедняжке!»
И он еще посмотрел на Ларису, и она показалась ему такою бедною и беспомощною, что он протянул ей руку и не успел одуматься и сообразить, как к руке этой, обхваченной жаркими руками Лары, прильнули ее влажные трепещущие губы и капнула горячая слеза.
Что могло привести Ларису к такому поступку? К нему побудило ее страшное сознание круглого одиночества, неодолимый натиск потребности казнить себя унижением и малодушная надежда, что за этим ударом ее самолюбию для нее настанет возможность стать под крыло вполне доброго человека, каким она признавала Подозерова.
В последнем расчете было кое-что верно.
Больной вскочил и дернул свою руку из рук Ларисы, но этим самым привлек ее к себе и почувствовал грудь ее у своей груди и заплаканное лицо ее у своего лица.
— О, умоляю вас, — шептала ему Лара. — Бога ради, не киньте меня вы... Выведите меня из моего ужасного, страшного положения, или иначе... я погибла!
— Чем, чем и как я могу помочь вам? Приказывайте! говорите!
— Как хотите.
— Я сделаю все, что могу... но что, что я могу сделать! Права заступиться за вас... я не имею... Вы не хотели этого сами...
— Это ничего не значит, — горячо перебила его Лара.
Подозеров взглянул на нее острым взглядом и, прошептав: «как ничего не значит?» — повернул лицо к стене.
— Ничего не значит! Возьмите все права надо мною: я их даю вам.
Подозеров молчал, но сердце его сильно забилось.
Лариса стояла на прежнем месте возле его постели. В комнате продолжалось мертвое безмолвие.
«Чего она от меня хочет?» — думал больной, чувствуя, что сердце продолжает учащенно биться, и что на него от Лары опять пышет тонким ароматом, болезненно усиливающим его беспокойство.
Он решился еще раз просить Ларису сказать ему, приказать ему, что он должен для нее сделать, и, оборотясь к ней с этой целию, остолбенел. Лариса стояла на коленях, положив голову на край его кровати, и плакала.
— Зачем, зачем вы так страдаете? — проговорил он.
— Мне тяжко... за себя... за вас... мне жаль... прошедшего, — отвечала, не поднимая головы, Лариса.
У Подозерова захватило дыхание, и сердце его упало и заныло: он молча, слабою рукой коснулся волос на голове красавицы и прошептал:
— Боже! Да я ведь тот же, как и прежде. Научите меня только, что же нужно для того, чтобы вам было легче? Вы помните, я вам сказал: я вечно, вечно друг ваш!
Лариса подняла личико и, взглянув заплаканными глазками в пристально на нее глядевшие глаза Подозерова, молча сжала его руку.
— Говорите же, говорите, не мучьте меня: что надо делать?
— Вы за меня стрелялись?
— Нет.
— Вы не хотите мне сказать правды.
Ларисе стало досадно.
— Я говорю вам правду: я тогда был приведен к этому многим, — многим, и вами в том числе, и Александрой Ивановной, и моею личною обидой. Я не знаю сам хорошо, за что я шел.
— За Синтянину, — прошептала, бледнея и потупляя глаза, Лариса.
— Нет... не знаю... мне просто... не занимательно жить.
— Почему? — прошептала Лара и, еще крепче сжав его руку, добавила:
— Пусть этого вперед не будет.
— Ну хорошо; но теперь дело не о мне, а о вас.
— Мне тогда будет хорошо, — трепеща продолжала Лариса, — тогда, когда...
Лариса встала на ноги; глаза ее загорелись, занавесились длинными веками и снова распахнулись.
Она теребила и мяла в руках руку Подозерова и наконец нетерпеливо сказала, морща лоб и брови:
— О, зачем вы не хотите понять меня?
— Нет; я не умею понять вас в эту минуту.
— Да, да! Непременно в эту минуту, или никогда! Андрей, я вас люблю! Не отвергайте меня! Бога ради не отвергайте! — настойчиво и твердо выговорила Лара и быстро выбежала из комнаты.
Глава шестнадцатая. На курьерских. Наступивший за сим день был решителем судьбы пленника Ларисы. Несмотря на разницу в нраве и образе мыслей этого человека с нравом и образом мыслей Висленева, с Подозеровым случилось то же самое, что некогда стряслось над братом Лары. Подозеров женился совсем нехотя, не думая и не гадая. Разница была только в побуждениях, ради которых эти два лица нашего романа посягнули на брак, да в том, что Лариса не искала ничьей посторонней помощи для обвенчания с собою Подозерова, а напротив, даже она устраняла всякое вмешательство самых близких людей в это дело.
После того случая, который рассказан в конце предшествовавшей главы, дело уже не могло остановиться и не могло кончиться иначе как браком. По крайней мере так решил после бессонной ночи честный Подозеров; так же казалось и не спавшей всю эту ночь своенравной Ларисе.
Подозеров, поворачивая с насупленными бровями свои подушки под головой, рассуждал: «Эта бедная девушка, если в нее всмотреться поближе... самое несчастное существо в мире. Оно просто никто... человек без прошлого! Как она все это мне сказала? Именно как дитя, в душе которого рождается неведомо что, совсем новое и необъяснимое никаким прошлым... С ней нельзя обходиться как со взрослым человеком: ее нужно жалеть и беречь... особенно... теперь, когда этот мерзавец ее так уронил... Но кто же станет теперь жалеть и беречь? Я должен на ней жениться, хотя и не чувствую к тому теперь любовного влечения. Да и не все ли мне равно: люблю ли я ее страстной любовью, или не люблю? Я, правда, не Печорин, но я равнодушен к жизни. Я вникал в нее, изучал ее и убедился, что вся она пустяки, вся не стоит хлопот и забот... Все, что я встречал и видел, все это тлен, суета и злоба; мне надоело далее все это рассматривать. Я слишком поздно узнал женщину, которая не есть злоба и суета, и тлен, и эта женщина взяла надо мной какое-то старшинство... и мне приятна эта власть ее надо мной; но кто сама эта женщина? Жертва. В ее жертве ее прелесть, ее обаяние, и ее совершенство в громадности любви ее... любви без критики, без анализа...»
И в памяти Подозерова пронеслась вся его беседа в хуторной рощице с Синтяниной, и с каждым вспомянутым словом этой беседы все ближе и ближе, ясней и ясней являлась пред ним генеральша, с ее логикой простой, нехитростной любви.
«Великий Господи! Насколько вся эта христианская простота и покорность выше, прекраснее и сильнее всего, что я видел прекрасного и сильного в наилучших мужчинах! Как гадко мне теперешнее мое раздумье, когда бедная девушка, которую я любил, оклеветана, опозорена в этом мелком мирке, и когда я, будучи властен поставить ее на ноги, раздумываю: сделать это или не делать? Почему же не делать? Потому что она не выдерживает моей критики и сравнений с другою. А разве я сам выдерживаю с тою какое-нибудь сравнение? О чем тут думать, когда бедная Лара уже прямо сказала, что она меня любит и что ей не к кому, бедняжке, примкнуть. Что мне мешает назвать ее своею женой? Я разубедился немножко в Ларисе; предо мною мелькнуло не выгодное для нее сравнение, и только... И моя любовь рухнула от критики, ее одолела критика. Что же, если б она, эта страдалица, взглянула теперь в мое сердце? Как бы она должна была презирать меня с моею минутною любовью! Нет; это значит, что я не любил Ларису прежде, что она лишь нравилась мне, как могла нравиться и Горданову... что я любил в ней тогда мою утеху, мою мечту о счастии, а счастье... счастье в том, чтобы чувствовать себя слугой чужого счастья. Это одно, это одно только верно, и кто хочет дожить жизнь в мире с самим собой, тот должен руководиться одною этою истиной... Все другое к этому само приложится. Как?.. Но, Господи, будто можно знать, что к чему и как приложится? Надо просто делать то, что можно делать, что требует счастие ближнего в эту данную минуту».
С такими мыслями Подозеров слегка забылся пред утром и с ними же, открыв глаза, увидел пред собою Ларису и протянул ей руку.
Лара опустила глаза.
— Вы не отчаивайтесь, — сказал ей тихо Подозеров. — Все поправимо.
Она пожала едва заметным движением его руку.
— Ошибки людям свойственны; не вы одни имели несчастие полюбить недостойного человека, — продолжал Андрей Иванович.
— Я его не любила, — прошептала в ответ Лариса.
— Ну, увлеклись, доверились... Все это вздор! Поверьте, все вздор, кроме одного добра, которое человек может сделать другому человеку.
— Вы ангел, Андрей Иваныч!
— О, нет! Не преувеличивайте, пожалуйста! Я человек, и очень дурной человек. Посмотрите, куда я гожусь в сравнении со многими другими, которые вам сочувствуют?
Лара молча вскинула на него глазами и как бы спрашивала этим взглядом: кого он разумеет?
— Я говорю об Александре Ивановне и о майорше.
— Ах, они! — воскликнула, спохватясь, Лариса и, насупив бровки, добавила шепотом: — Я вам верю больше всех.
— Зачем же больше?.. Нет, вас любят нежно... преданно и Форовы, и генеральша...
— А вы? — спросила вдруг с тревогой Лара.
— И я.
— Вы меня прощаете?
— Прощаю ли я вас?
— Да.
— В чем же прощать?
— Ах, не говорите со мною таким образом!
— Но вы ни в чем предо мною не виноваты.
— Нет, это не так, не так!
— Совершенно так: я вас любил, но... но не нравился вам... и что же тут такого!
— Это не так, не так!
— Не так?
— Да, не так.
Лара закрыла ладонью глаза и прошептала:
— Не мучьте же меня; я уже сказала вам, что я люблю вас.
— Вы ошибаетесь, — ответил, покачав головой, Подозеров.
— Нет, нет, нет, я не ошибаюсь: я вас люблю.
— Нет, вы очень ошибаетесь. В вас говорит теперь жалость и сострадание ко мне, но все равно. Если б я не надеялся найти в себе силы устранить от вас всякий повод прийти со временем к сожалению об этой ошибке, я бы не сказал вам того, что скажу сию секунду. Отвечайте мне прямо: хотите ли вы быть моею женой?
— Да!
— Дайте же вашу руку.
Лариса задрожала, схватила трепещущими руками его руку и второй раз припала к ней горячими устами.
Подозеров отдернул руку и, покраснев, вскричал:
— Никогда этого не делайте!
— Я так хочу!.. Оставьте! — простонала Лариса и, обвив руками шею Подозерова, робко нашла устами его уста. Подозеров сделал невольное, хотя и слабое, усилие отвернуться: он понял, что за человек Лариса, и в душе его мелькнуло... презрение к невесте.
Боже, какая это разница в сравнении с тою другою женщиной, образ которой нарисовался в это мгновение в его памяти! Какую противоположность представляет это судорожное метанье с тем твердым, самообладающим спокойствием той другой женщины!..
Лариса в это время тоже думала о той самой женщине и проговорила:
— В эту важную минуту я вас прошу только об одном: исполните ли вы мою просьбу?
— Конечно.
Лариса крепко сжала обе руки своего жениха и, краснея и потупляясь, проговорила:
— Пощадите мое чувство!
Подозеров посмотрел на нее молча.
Лариса выбросила его руки и, закрыв ладонями свое пылающее лицо, прошептала:
— Не вспоминайте мне...
Она опять остановилась.
— О чем? Ну, договаривайте смело, о чем?
— О Синтяниной.
Подозеров промолчал. Лариса становилась ему почти противна; а она, уладив свою судьбу с Подозеровым, впала в новую суету и вовсе не замечала чувства, какое внушила своему будущему мужу...
Подозеров обрадовался, когда Лариса тотчас после этого разговора вышла, не дождавшись от него ответа. Он встал, запер за нею дверь и задумался... О чем? О том седом кавказском капитане, который в известном рассказе графа Льва Толстого, готовясь к смертному бою, ломал голову над решением вопроса, возможна ли ревность без любви? Подозеров имел пред глазами живое доказательство, что такая ревность возможна, и ревнивая выходка Лары была для него противнее известной ему ревности ее брата в Павловском парке и сто раз недостойнее ревности генерала Синтянина.
«Однако с нею и не так легко, должно быть, будет, — подумал он. — Да, нелегко; но ведь только на картинах рисуют разбойников в плащах и с перьями на шляпах, а нищету с душистою геранью на окне; на самом деле все это гораздо хуже. И на словах тоже говорят, что можно жить не любя... да, можно, но каково это?»
Глава семнадцатая. Еще шибче.
События эти, совершившиеся в глубокой тайне, разумеется, не были никому ни одним словом выданы ни Подозеровым, ни Ларисой; но тонкий и необъяснимо наблюдательный во всех подобных вещах женский взгляд прозрел их.
Катерина Астафьевна, навестив вечером того же дня племянницу, зашла прямо от нее к генеральше и сказала, за чашкой чаю, последней:
— А наша Лариса Платоновна что-то устроила!
— Что же такое она могла устроить? — спросила генеральша.
— Не знаю; сейчас я была у них, и они что-то оба очень вежливо друг с другом говорят и глазки потупляют.
— Ну, ты, Катя, кажется, опять сплетничаешь.
— Сходи, матушка, сама и посмотри; навести больного-то после того, как он поправился.
Форова подчеркнула последнее слово и, протягивая на прощанье руку, добавила:
— В самом деле, он говорил, что очень желал бы тебя видеть.
С этим майорша ушла домой; но, посетив на другой день Синтянину, тотчас же, как только уселась, запытала:
— А что же, видела?
— Видела, — отвечала, не без усилия улыбнувшись, Александра Ивановна.
— Ну и поздравляю; а ничего бы не потеряла, если б и не глядя поверила мне.
Синтянина объявила, что Лариса сказала ей, что она выходит замуж за Подозерова.
— Это смех! — ответила майорша. — От досады замуж идет! Или она затем выходит, чтобы показать, что на ней еще и после амуров с Гордашкой честные люди могут жениться! Что же, дуракам закон не писан: пусть хватит шилом нашей патоки!.. Когда же будет эта их «маланьина свадьба»?
— Он мне сказал, что скоро... На этих днях, через неделю или через две.
— Пропал, брат, ты, бедный Андрей Иваныч!
— Полно тебе, Катя, пророчить.
— А не могу я не пророчить, милая, когда дар такой имею.
— Дар! — генеральша улыбнулась и спросила: — Что же ты, святая, что ли, что тебе дан дар пророчества?
— Ну вот, святая! Святая ли или клятая, а пророчествую. Валаамова ослица тоже ведь не святая была, а прорекала.
В эту минуту в комнату взошел майор Форов и рассказал, что он сейчас встретил Ларису, которая неожиданно сообщила ему, что выходит замуж за Подозерова и просит майора быть ее посаженым отцом.
— Чудесно! — воскликнула нетерпеливая Катерина Астафьевна. — Одна я пока еще осталась в непосвященных! Что же, ты ее похвалил и поздравил? — обратилась она к мужу.
— А разумеется, поздравил и похвалил, — отвечал майор.
— И даже похвалил?
— Да ведь сказано же тебе, что похвалил.
— Мне кажется, что ты все это врешь.
— Нимало не вру; его бы я не похвалил, а ее отчего же не хвалить?
— Потому что это подлость.
— Какая подлость? Никакой я тут подлости не вижу. Вольно же мужчине делать глупость — жениться, — к бабе в батраки идти; а женщины дуры были бы, если б от этого счастья отказывались. В чем же тут подлость? Это принятие подданства, и ничего больше.
— За что же ты Иосафову свадьбу осуждал?
— А-а! там дело другое: там принуждение!
— А здесь умаливанье, просьбы.
— Почему ты это знаешь?
— Так: я пророчица.
— Ну и что же такое, если и просьбы? Она, значит, умная барышня и политичная; устраивается как может.
— Передовая!
— А конечно; вперед всех идет и честно просит! мне-де штатный дурак нужен, — не согласитесь ли вы быть моим штатным дураком? И что же, если есть такой согласный? И прекрасно! Хвалю ее, поздравляю и даже образом благословлю.
— Да ты еще знаешь ли, как благословляют-то образом?
— Нет, не знаю, но я сейчас прямо отсюда к Евангелу пойду и спрошу.
— Нет, по мне эта свадьба сто раз хуже нигилистической Ясафкиной свадьбы в Петербурге, потому что эта просто черт знает зачем идет замуж!
— Имеет выгоды, — отвечал майор.
— Да; она репутацию свою поправляет; но его-то, его-то, шута, что волочит в эту гибель?
— Его?.. А что же, это и ему хорошо: это тешит его испанское дворянство. И благо им обоим: пусть себе совершенствуются.
— Ну, пропадать же им! В этом браке несчастие и погибель.
— Отчего же погибель? — отозвался майор, — мало ли людей бывают несчастливы в браке, но находят свое счастие за браком.
— Да, вот это что! — вспылила Катерина Астафьевна, — так, по-твоему, что такое брак? Вздор, форма, фить — и ничего более.
— Брак?.. нынче это для многих женщин средство переменять мужей и не слыть нигилисткой.
— Вы дурак, господин майор! — проговорила, побагровев, майорша.
— Это как угодно, — я говорю, как понимаю.
— А ты зачем сюда пришел?
— Да я к Евангелу в гости иду и за новым журналом зашел, а больше ни за чем: я ругаться с тобою не хочу.
— Ну так бери книгу и отправляйся вон, гадостный нигилист. Седых волос-то своих постыдился бы!
— Я их и стыжусь, но не помогает, — все больше седеют.
После этих слов Форов незлобиво простился и ушел, а через десять дней отец Евангел, в небольшой деревенской церкви, сочетал нерушимыми узами Подозерова и Ларису. Свадьба эта, которую майорша называла «маланьиной свадьбой», совершилась тихо, при одних свидетелях, после чего у молодых был скромный ужин для близких людей. Веселья не было никакого, напротив, все вышло, по мнению Форовой, «не по-людски».
Невеста приехала в церковь озабоченная, сердитая, уехала с мужем надутая, встретила гостей у себя дома рассеянно и сидела за столом недовольная.
Лариса понимала, что она выходит замуж как-то очень не серьезно, и чувствовала, что это понимает не одна она, и вследствие того она ощущала досаду на всех, особенно на тех, кто был определеннее ее, а таковы были все. Особенно же ей были неприятны всякие превосходства в сравнениях: она как бы боялась их, и в этом-то роде определялись ее отношения к Синтяниной. Лара не ревновала к ней мужа, но она боялась не совладеть с нею, а к тому же после венчания Лариса начала думать: не напрасно ли она поторопилась, что, может быть, лучше было бы... уехать куда-нибудь, вместо того, чтобы выходить замуж.
«Маланьина свадьба» выходила прескучная!
Никакие попытки друзей придать оживление этому бедному торжеству не удавались, а напротив, как будто еще более портили вечер.
Поэтический отец Евангел явился с целым запасом теплоты и светлоты: поздравил молодых, весь сияя радостию и доброжеланиями, подал Подозерову от своего усердия небольшую икону, а Ларисе преподнес большой венок, добытый им к этому случаю из бодростинских оранжерей. Поднося цветы, «поэтический поп» приветствовал красавицу невесту восторженными стихами, в которых величал женщину «жемчужиной в венке творений». «Ты вся любовь! Ты вся любовь!» — восклицал он своим звонким тенором, держа пред Ларисой венок:
Все дни твои — кругом извитые ступени
Широкой лестницы любви.
Он декламировал, указывая на Подозерова, что ей «дано его покоить, судьбу и жизнь его делить; его все радости удвоить, его печали раздвоить», и заключил свое поэтическое поздравление словами:
И я, возникший для волненья
За жизнь собратий и мою,
Тебе венец благословенья
От всех рожденных подаю.
И с этим он, отмахнув полу своей голубой кашемировой рясы на коричневом подбое и держа в руках венок пред своими глазами, подал его воспетой им невесте.
Евангелу зааплодировали и Синтянина, и Форов, и Катерина Астафьевна, и даже его собственная попадья. Да и невозможно было оставаться равнодушным при виде этого до умиления восторженного священника.
Поп Евангел и в самом деле был столько прекрасен, что вызывал восторги и хваления. Этому могла не поддаться только одна виновница торжества, то есть сама Лариса. Лариса нашла эту восторженность не идущею к делу, и усилившимся недовольным выражением лица дала почувствовать, что и величание ее «жемчужиной в венке творений», и воспевание любви, и указание обязанности «его печали раздвоить», и наконец самый венок, — все это напрасно, все это ей не нужно, и она отнюдь не хочет врисовывать себя в пасторально-буколическую картину, начертанную Евангелом. Лариса постаралась выразить все это так внушительно, что не было никого, кто бы ее не понял, и майор Форов, чтобы перебить неприятную натянутость и вместе с тем слегка наказать свою капризную племянницу, вмешался с своим тостом и сказал:
— А я вам, уважаемая Лариса Платоновна, попросту, как хохлы, скажу: «будь здорова як корова, щедровата як земля и плодовита як свинья!» Желаю вам сто лет здравствовать и двадцать на четвереньках ползать!
При этой шутке старого циника Лариса совсем вспылила и хотя промолчала, но покраснела от досады до самых ушей. Не удавалось ничто, и гости рано стали прощаться. Лариса никого не удерживала и не провожала далее залы. Подозеров один благодарил гостей и жал им в передней руки.
С Ларисой оставалась одна Синтянина, но и та ее через минуту оставила.
Лара отвергнула услуги генеральши, желавшей быть при ее туалете, и Александра Ивановна, принимая в передней из рук Подозерова свою шаль, сказала ему:
— Ну, идите теперь к вашей жене. Желаю вам с нею бесконечного счастия. Любите ее и... и... больше ничего, любите ее, по английским обетам брака, здоровую и больную, счастливую и несчастную, утешающую вас или... да одним словом, любите ее всегда, вечно, при всех случайностях. В твердой решимости любить такая великая сила. Затем еще раз: будьте счастливы и прощайте!
Она крепко сжала его руку и твердою поступью вышла за дверь, ключ которой поворотился за генеральшей одновременно с ключом, щелкнувшим в замке спальни Ларисы, искавшей в тишине и уединении исхода душившей ее досады на то, что она вышла замуж, на то, что на свете есть люди, которые поступают так или иначе, зная, почему они так поступают, на то, что она лишена такого ведения и не знает, где его найти, на то, наконец, что она не видит, на что бы ей рассердиться.
И благой рок помог ей в этом: прекрасные глаза ее загорелись гневом и ноздри расширились: она увидела прощание генеральши с ее мужем и нашла в этом непримиримую обиду.
Она заперлась в спальне и предоставила своему мужу полную свободу размышлять о своей выходке наедине в его кабинете.
Что могло обещать такое начало и как его принял молодой муж красавицы Ларисы?
Глава восемнадцатая.
Майор и Катерина Астафьевна.
У Катерины Астафьевны, несмотря на ее чувствительные нервы, от природы было железное здоровье, а жизнь еще крепче закалила ее. Происходя от бедных родителей и никогда не быв красивою, хотя, впрочем, она была очень миловидною, Катерина Астафьевна не находила себе жениха между губернскими франтами и до тридцати лет жила при своей сестре, Висленевой, бегая по хозяйству да купая и нянчая ее детей. Из этой роли ее вывела Крымская война, когда Катерина Астафьевна, по неодолимым побуждениям своего кипучего сердца, поступила в общину сестер милосердия и отбыла всю тяжкую оборону Севастополя, служила выздоравливавшим и умиравшим его защитникам, великие заслуги которых отечеству оценены лишь ныне. Там же, в Крыму, Катерина Астафьевна выхолила и вынянчила привезенного к ней с перевязочного пункта майора Форова и, ухаживая за ним, полюбила его как прямого, отважного и бескорыстнейшего человека. Полюбить известные достоинства в человеке для Катерины Астафьевны значило полюбить самого этого человека; она не успела пережить самых первых восторгов по поводу рассказов, которыми оживавший Форов очаровал ее, как Отелло очаровал свою Дездемону, — как уже дело было сделано: искренняя простолюдинка Катерина Астафьевна всем существом своим привязалась к дружившему с солдатами и огрызавшемуся на старших Филетеру Ивановичу. Майор отвечал ей тем же, и хотя они друг с другом ни о чем не условливались и в любви друг другу не объяснялись, но когда майор стал, к концу кампании, на ноги, они с Катериной Астафьевной очутились вместе, сначала под обозною фурой, потом в татарской мазанке, потом на постоялом дворе, а там уже так и заночевали вдвоем по городам и городишкам, куда гоняла майора служба, до тех пор, пока он, наконец, вылетел из этой службы по поводу той же Катерины Астафьевны. Дело это заключалось в том, что неверующий майор Филетер Иванович, соединясь неразлучным союзом с глубоко верующею и убежденною, но крайне оригинальной Катериной Астафьевной, лет восемь кряду забывал перевенчаться с нею. Пока они кочевали с полком, им ничто и не напоминало об этом упущении. Катерина Астафьевна, при ее вечном и неуклонном стремлении вмешиваться во всякое чужое горе и помогать ему по своим силам и разумению, к своим собственным делам обнаруживала полное равнодушие, а майор еще превосходил ее в этом. Катерина Астафьевна была любимицей всех, начиная с полкового командира и кончая последним фурштатом. Солдаты же того батальона, которым командовал майор, просто боготворили ее: все они знали Катерину Астафьевну, и Катерина Астафьевна тоже всех их знала по именам и по достоинствам. Она была их утешительницей, душеприказчицей, казначеем, лекарем и духовною матерью: ей первой бежал солдатик открыть свое горе, заключавшееся в потере штыка, или в иной подобной беде, значения которой не понять тому, кто не носил ранца за плечами, — и Катерина Астафьевна не читала никаких моралей и наставлений, а прямо помогала, как находила возможным. Ей мастеровой солдат отдавал на сбережение свой тяжким трудом собранный грош; ее звали к себе умирающие и изустно завещали ей, как распорядиться бывшими у нее на сохранении пятью или шестью рублями, к ней же приходили на дух те, кого «бес смущал» сбежать или сделать другую гадость, давали ей слово воздержаться и просили прочитать за них «тайный акахист», чему многие смущаемые солдатики приписывают неодолимое значение. Катерина Астафьевна со всем этим умела управляться в совершенстве, и такая жизнь, и такие труды не только нимало не тяготили ее, но она даже почитала себя необыкновенно счастливою и, как в песне поется, «не думала ни о чем в свете тужить».
Врагов, или таких недругов, которым бы она добра не желала, у нее не было. Если она замечала между товарищами майора людей не совсем хороших, то старалась извинять их воспитанием и т. п., и все-таки не выдавала их и не уклонялась от их общества. Исключение составляли люди надменные и хитрые: этих Катерина Астафьевна, по прямоте своей натуры, ненавидела; но, во-первых, таких людей, слава Богу, было немного в армейском полку, куда Форов попал по своему капризу, несмотря на полученное им высшее военное образование; во-вторых, майор, весьма равнодушный к себе самому и, по-видимому, никогда не заботившийся ни о каких выгодах и для Катерины Астафьевны, не стерпел бы ни малейшего оскорбления, ей сделанного, и наконец, в-третьих, «майорша» и сама умела постоять за себя и дать сдачи заносчивому чванству. Поэтому ее никто не трогал, и она жила прекрасно.
Но при всем своем прямодушии, незлобии и доброте, не находившей унижения ни в какой услуге ближнему, Катерина Астафьевна была, однако, очень горда. Не любя жеманства и всякой сентиментальности, она не переносила невежества, нахальства, заносчивости и фанфаронства, и Боже сохрани, чтобы кто-нибудь попытался третировать ее ниже того, как она сама себя ставила; она отделывала за такие вещи так, что человек этого потом во всю жизнь не позабывал.
Солдаты, со свойственною им отличною меткостью определений, говорили про Катерину Астафьевну, что она не живет по пословице: «хоть горшком меня зови, да не ставь только к жару», а что она наблюдает другую пословицу: «хоть полы мною мой, но не называй меня тряпкой».
Это было совершенно верное и мастерское определение характера Катерины Астафьевны, и в силу этого-то самого характера столь терпеливая во всех нуждах и лишениях подруга майора не стерпела, когда при перемене полкового командира вновь вступивший в командование полковник, из старых товарищей Форова по военной академии, не пригласил ее на полковой бал, куда были позваны жены всех семейных офицеров.
Катерина Астафьевна горячо приняла к сердцу эту обиду и, не укоряя Форова, поставившего ее в такое положение, велела денщику стащить с чердака свой старый чемодан и начала укладывать свои немудрые пожитки.
Хотела ли она расстаться с майором и куда-нибудь уехать? Это осталось ее тайной; но майор, увидев эти сборы, тотчас же надел мундир и отправился к полковому командиру с просьбой об отставке.
На вопрос удивленного полковника: зачем Форов так неожиданно покидает службу? — Филетер Иванович резко отвечал, что он «с подлецами служить не может».
— Что это значит? — громко и сердито вскрикнул на него полковой командир.
— Ничего больше, как то, что я не хочу служить с тем, кто способен обижать женщину, и прошу вас сделать распоряжение об увольнении меня в отставку. А если вам угодно со мною стреляться, так я готов с моим удовольствием.
Полковой командир не захотел затевать «истории» с Филетером Ивановичем на первых порах своего командирства, и майор Форов благополучно вылетел в отставку.
С Катериной Астафьевной у Форова не было никаких объяснений: они совершенно освоились с манерой жить, ничего друг другу не ставя на вид и не внушая, но в совершенстве понимая один другого без всяких разговоров.
Вскоре за сим Катерина Астафьевна сдала плачущим солдатам все хранившиеся у нее на руках их собственные деньги, а затем майор распростился со своим батальоном, сел с своею подругой в рогожную кибитку и поехал.
За заставой ждал их сюрприз: в темной луговине, у моста, стояла куча солдат, которые, при приближении майорской кибитки, сняли шапки и зарыдали.
Майор, натолкнувшись на эту засаду, задергался и засуетился.
— Чего? чего, дурачье, высыпали? а? Пошли назад! Вас вот палками за это взлупят! — закричал он, стараясь в зычном окрике скрыть дрожание голоса, изменявшего ему от слез, поднимавшихся к горлу.
Солдаты плакали; Катерина Астафьевна тоже плакала и, развязав за спиной майора кошелочку с яблоками, печеными яйцами и пирогами, заготовленными на дорогу, стала бросать эту провизию солдатам, которые сию же минуту обсыпали кибитку, нахлынули к ней и начали ловить и целовать ее руки.
— Фу, пусто вам будь! — воскликнул майор, — вы, канальи, этак просто задавите! — И он, выскочив из кибитки, скомандовал к кабаку, купил ведро водки, распил ее со старыми товарищами и наказал им служить верой и правдой и слушаться начальства, дал старшему из своего скудного кошелька десять рублей и сел в повозку; но, садясь, он почувствовал в ногах у себя что-то теплое и мягкое, живое и слегка визжащее.
— Стой! Что это такое тут возится? — запытал удивленный майор.
— Драдедам, ваше высокоблагородие, — конфузливо отвечал ему шепотом ближе других стоявший к нему солдатик.
Майор выразил изумление. «Драдедам» было не что иное как превосходная лягавая собака чистейшей, столь редкой ныне маклофской породы. Собака эта, составлявшая предмет всеобщей зависти, принадлежала полицеймейстеру города, из которого уезжал майор. Эту собаку, имевшую кличку Трафадан и переименованную солдатами в «Драдедама», полицеймейстер ценил и берег как зеницу ока. Родовитого пса этого сторожила вся полиция гораздо бдительнее, чем всю остальную собственность целого города, и вдруг этот редкий пес, этот Драдедам, со стиснутою ремнем мордой и завязанный в рединный мешок, является в ногах, в кибитке отъезжающего майора!
— Ребята! Что же вы это, сума, что ли, сошли, что бы меня с краденой собакой из полка выпроваживать? Кто вас этому научил? — заговорил майор.
— Никто, ваше высокоблагородие, мы по своему усердию вас награждаем.
— Чудовый кобель, ваше высокоблагородие! — подхватывали другие.
— Берите, берите, ваше высокоблагородие: мы вам жертвуем Драдедашку! — вскрикивали третьи. — Пошел, братец ямщик, пошел, пошел!
И солдатики загагайкали на лошадей и замахали руками.
— Стойте, дураки: разве благородно нам воровскую собаку увезть?
— Эх, ваше высокоблагородие! Отец вы наш, командирша-матушка: да что вам на это глядеть? Да разве вы похожи на благородных? Ну, ну! Эх вы, голубчики! Пошел, ямщик, пошел, пошел!
И по тройке со всех сторон захлестали сломанные с придорожных ракит прутья; лошади рванулись и понеслись, не чуя удерживавших их вожжей.
А вслед еще долго слышались подгонные крики: «Ну, ну! Валяй, валяй! ребята! Прощайте, наш отец с матерью!.. Прощай, Драдедашка!»
Под эти крики едва державшийся на облучке ямщик и отчаявшиеся в своем благополучии майор и Катерина Астафьевна и визжавший в мешке Драдедам во мгновение ока долетели на перепуганной тройке до крыльца следующей почтовой станции, где привычные кони сразу стали.
Здесь майор хотел сейчас же высвободить из мешка и отпустить назад полученную им «в награду» краденую полицеймейстерскую собаку, как ямщик подступил к нему с советом этого не делать.
— Все единственно это, — заговорил он, — пусть уж она лучше пропадет, ваше высокоблагородие, а только тут не вытаскивайте; смотритель увидит, все разбрешет, и кавалерам за это достанется.
— И то правда! — смекнул майор и добавил: — А ты же, каналья, разве не расскажешь?
— Да мне что ж казать? У меня у самого братья в солдатах есть.
— Ну что ж, что братья твои в солдатах служат?
— А должны же мы хороших начальников почитать. Вишь вон, что сказали, что вы, баят, на благородного-то не похожи.
Майор дал ямщику полтину и покатил далее с Катериной Астафьевной и с Драдедамом, которого оба они стали с той поры любить и холить, как за достоинство этой доброй и умной собаки, так и за то, что она была для них воспоминанием такого оригинального и теплого прощанья с простосердечными друзьями.
Глава девятнадцатая. О тех же самых.
Прибыв в город, где у Катерины Астафьевны был известный нам маленький домик с наглухо забитыми воротами, изгнанный майор и его подруга водворились здесь вместе с Драдедамом. Прошел год, два и три, а они по-прежнему жили все в тех же неоформленных отношениях, и очень возможно, что дожили бы в них и до смерти, если бы некоторая невинная хитрость и некоторая благоразумная глупость не поставила эту оригинальную чету в законное соотношение.
Филетер Форов, выйдя в отставку и водворясь среди родства Катерины Астафьевны, сначала был предметом некоторого недоброжелательства и косых взглядов со стороны Ларисиной матери; да и сама Лара, подрастая, стала смущаться по поводу отношений тетки к Форову; но Филетер Иванович не обращал на это внимания. Майор Филетер Иванович не искал ни друзей, ни приятелей: он повторял на все свое любимое «наплевать», лежебочествовал, слегка попивал, читал с утра до поздней ночи и порой ругал все силы, господствия, начальства и власти.
Но Катерину Астафьевну это сокрушало, и сокрушало в одном отношении. Она боялась за душу Форова и всегда лелеяла заветную мечту «привести его к Богу».
Эта мысль в первый раз сверкнула в ее голове, когда принесенный в госпиталь раненый майор пришел в себя и, поведя глазами, остановил их на чепце Катерины Астафьевны и зашевелил губами.
— Что вам: верно, желаете батюшку позвать? — участливо спросила она раненого.
— Совсем нет; а я хочу выплюнуть, — отвечал Форов, отделя опухшим языком от поднебесья сгусток запекшейся крови.
— Вы не веруете в Бога? — грустно вопросила религиозная Катерина Астафьевна.
Майор качнул утвердительно головой.
— Ах, это ужасное несчастие!
И с тех пор она начала нежно за ним ухаживать и положила в сердце своем надежду «привести его к Богу»; но это ей никогда не удавалось и не удалось до сих пор.
Во все время службы майора в полку она не без труда достигла только одного, чтобы майор не гасил на ночь лампады, которую она, на свои трудовые деньги, теплила пред образом, а днем не закуривал от этой лампады своих растрепанных толстых папирос; но удержать его от богохульных выходок в разговорах она не могла, и радовалась лишь тому, что он подобных выходок не дозволял себе при солдатах, при которых даже и крестился, и целовал крест. По удалении же в свой городок, подруга майора, возобновив дружеские связи с Синтяниной, открыла ей свои заботы насчет обращения Форова и была несказанно рада, замечая, что Филетер Иванович, что называется, полюбил генеральшу.
— Нравится она тебе, моя Сашурочка-то? — говорила Катерина Астафьевна, заглядывая в глаза майору.
— Прекрасная женщина, — отвечал Форов.
— А ведь что ее делает такою прекрасною женщиной?
— Что? Я не знаю что: так, хорошая зародилась.
— Нет; она христианка.
— Ну да, рассказывай! Будто нет богомольных подлецов, точно так же, как и подлецов не молящихся?
И майор отходил от жены с явным нежеланием продолжать подобные разговоры.
Затем он сошелся у той же Синтяниной с отцом Евангелом и заспорил было на свои любимые темы о несообразности вещественного поста, о словесной молитве, о священстве, которое он называл «сословием духовных адвокатов»; но начитанный и либеральный Евангел шутя оконфузил майора и шутя успокоил его словами, что «не ядый о Господе не ест, ибо лишает себя для Бога, и ядый о Господе ест, ибо вкушая хвалит Бога».
Форов сказал:
— Если так, то не о чем спорить. Впрочем, я в этом и не знаток.
— А в чем же вы по этой части великий знаток?
— В чем? В том, что ясно разумом постигаю моим.
— Например-с?
— Например, я постигаю, что никакой всемогущий опекун в дела здешнего мира не мешается.
— Так-с. Это вы разумом постигли?
— Да, разумеется, потому что иначе разве могли бы быть такие несправедливости, видя которые у всякого мало-мальски честного человека все кишки в брюхе от негодования вертятся.
— А мы можем ли постигать, что справедливо и что несправедливо?
— Вот тебе на еще! Конечно, можем, потому что мы факт видим.
— А факт-то иногда совсем не то выражает, что оно значит.
— Темно.
— А вот я вас сейчас в этом просвещу, если угодно.
— Сделайте милость.
— Извольте-с. Положим, что есть на свете мать, добрая, предобрая женщина, которая мухи не обидит. Допускаете вы, что может быть на свете такая женщина?
— Ну-с, допускаю: вот моя Торочка такая.
— Ну-с, прекрасно! Теперь допустим, что у Катерины Астафьевны есть дитя.
— Не могу этого допустить, потому что она уже не в таких летах, чтобы детей иметь.
— Ну, все равно: допустим это как предположение.
— Зачем же допускать нелепые предположения.
Евангел улыбнулся и сказал:
— Вы мелочный человек: вас занимает процесс спора, а не искомое; но все равно-с. Извольте, ну нет у нее ребенка, так у нее есть вот собака Драдедам, а этот Драдедам пользуется ее вниманием, которого он почему-нибудь заслуживает.
— Допускаю.
— Теперь-с, если б этот Драдедам был болен и ему нужно было дать мяса, а купить его негде.
— Ну-с?
— Вот Катерина Астафьевна берет ножик и режет голову курице и варит из нее Драдедаму похлебку: справедливо это или нет?
— Справедливо, потому что Драдедам благороднейшее создание.
— Так-с: а курица, которой отрезали голову, непременно думала, что с нею поступали ужасно несправедливо.
— Что же вы этим доказали?
— То, что факт жестокости тут есть: курица убита, — это для нее жестоко и с ее куриной точки зрения несправедливо, а между тем вы сами, существо гораздо высшее и умнейшее курицы, нашли все это справедливым.
— Гм!
— Да, так-с. Есть будто факт жестокосердия, но и его нет.
— Ну уж этого совсем не понимаю: и оно есть, и его нет.
— Да нет-с ее, жестокости, нет, ибо Катерина Астафьевна остается столь же доброю после накормления курицей Драдедама, как была до сего случая и во время сего случая. Вот вам — есть факт жестокости и несправедливости, а он вовсе не значит того, чем кажется. Теперь возражайте!
— Я не хочу вам возражать, — отвечал, подумав, Форов.
— А почему, спрошу?
— Почему?.. потому что я в этом не силен, а вы много над этим думали и имеете начитанность и можете меня сбить, чего я отнюдь не желаю.
— Почему же вы не желаете прийти к какой-нибудь истине и разубедиться в заблуждении?
— Так, не желаю, потому что не хочу забивать себе и без того темные памороки этою путаницей.
— Памороки не хотите забивать? Гм! Нет-с, это не потому.
— А почему же?
Евангел снова улыбнулся и, сжав легонько руку майора немножко пониже локтя, ласково проговорил:
— Вы потому не хотите об этом говорить и думать как следует, что души вашей коснулось святое сомнение в справедливости рутины безверия! И посмотрите зато сюда!
С этим отец Евангел, подвинув слегка майора к себе, показал ему через дверь другой комнаты, как Катерина Астафьевна, слышавшая весь их разговор, вдруг упала на колени и, протянув руки к освященному лампадой образнику, плакала радостными и благодарными слезами.
— Эти слезы с неба, — шепнул Евангел.
— Бабье, ото всего плачут, — сухо отвечал, отворачиваясь, майор.
Но веселый Евангел вдруг смутился и, взяв майора за руку, тем же добродушным тоном проговорил:
— Бабье-с? Вы сказали бабье?.. Это недостойно вашей образованности... Женщины — это прелесть! Они наши мироносицы: без их слез этот злой мир заскоруз бы-с!
— Вы диалектик.
— Да-с: я диалектик; а вы баба, ибо боитесь свободомыслия и бежите чистого чувства, женской слезой пробужденного. Что-с? Ха-ха-ха... Да вы ничего, не робейте: это ведь проходит!
Глава двадцатая. Еще о них же.
На другой день после этой беседы, происходившей задолго пред теми событиями, с которых мы начали свое повествование, майор Форов, часу в десятом утра, пришел пешком к отцу Евангелу и сказал, что он ему очень понравился.
— Неужели? — отвечал веселый священник. — Что ж, это прекрасно: это значит, мы честные люди, да!.. а жены у нас с вами еще лучше нас самих. Я вам вот сейчас и покажу мою жену: она гораздо лучше меня. Паинька! Паинька! Паинька! — закричал отец Евангел, удерживая за руку майора и засматривая в дверь соседнего покоя.
— Чего тебе нужно, Паинька? — послышался оттуда звонкий, симпатический, молодой голос.
— «Паинька», это она меня так зовет, — объяснил майору Евангел. — Мы привыкли друг на друга все «ты паинька» да «ты паинька», да так уж свои имена совсем и позабыли... Да иди же сюда, Паинька! — возвысил он несколько нетерпеливо свой голос.
В дверях показалась небольшая и довольно худенькая, несколько нестройно сложенная молодая женщина с очень добрыми большими коричневыми глазами и тоненькими колечками темных волос на висках.
Она была одета в светлое ситцевое платье и держала в одной руке полоскательную фарфоровую чашку с обваренным миндалем, который обчищала другою, свободною рукой.
— Ну что ты здесь, Паинька? Какой ты беспокойный, что отрываешь меня без толку? — заговорила она, ласково глядя на мужа и на майора.
— Как без толку, когда гость пришел.
— Ну так что же гость пришел? Они к нам часто будут ходить.
— Превосходно сказано, — воскликнул Форов. — Буду-с.
— Да; она у меня преумная, эта Пайка, — молвил, слегка обнимая жену, Евангел.
— Ну вот уж и умная! Выему не верьте: я в лесу выросла, верее молилась и пню поклонилася, — так откуда я умная буду?
— Нет; вы ей не верьте: она преумная, — уверял, смеясь и тряся майора за руку, Евангел. — Она вдруг иногда, знаете, такое скажет, что только рот разинешь. А они, Паинька, в Бога изволят не веровать, — обратился он, указывая жене на майора.
— Ну так что же такое: они после поверят.
— Видите, как рассуждает!
— Да что ж ты надо мной смеешься? Разумеется, что не всем в одно время верить. Ведь они добрые?
— Ну так что же, что добрый? А как он в царстве небесном будет? Его не пустят.
— Нет, пустят.
— Извольте вы с ней спорить! — рассмеялся Евангел. — Я тебе, Пайка, говорю: его к верующим не пустят; тебе, попадье, нельзя этого не знать.
— Ну, его к неверующим пустят.
— Видите, видите, какая бедовая моя Пайка! У-у-у-х, с ядовитостью женщина! — продолжал он, тихонько, с нежностью и восторгом трогая жену за ее свежий раздвоившийся подбородок, и в то же время, оборотясь к майору, добавил:— Ужасно хитрая-с! Ужасно! Один я ее только постигаю, а вы о ней если сделаете заключение по этому первому свиданию, так непременно ошибетесь.
— Да я их совсем и не в первый раз вижу, — перебила его попадья, перемывая в той же полоскательной чашке свой миндаль. — Я их уже видела на висленевском дворе, и мы кланялись.
— Не помню-с, — отвечал майор, с любовию артиста разглядывая это прекрасное творение, как раз подходящее, по его мнению, к типу наипочтеннейших женщин на свете.
— Как же не помните, — толковала попадья, — вы еще шли с супругой... или кто она вам доводится, Катерина-то Астафьевна?.. Да! вы шли по двору, а мы с генеральшей Александрой Ивановной сидели под окном, вишни чистили и вам кланялись.
— Не помню-с.
— Как же-с, а я помню: вы вот теперь в штанах, а тогда были в подштанах.
— Как в подштанах-с? — изумился майор.
— Так, в этаких в белых, со штрифами.
Майор засмеялся, а отец Евангел, хохоча, ударяя себя ладонями по коленам, восклицал:
— Ах, Паинька! Паинька! проговорились вы, прелесть моя, проговорились!
Попадья слегка вспыхнула и хотела возражать мужу, но как тот махал на нее руками и кричал: «т-с, т-с, т-с! молчи, Пайка, молчи, а то хуже скажешь», то она быстро выбежала вон и начала хлопотать о закуске.
— Какая чудесная женщина! — сказал, глядя вслед ей, майор.
— То есть превосходнейшая-с, а не только чудесная, — согласился с ним Евангел. — Видите, всех хочет в царство небесное поместить: мы будем в своем царстве небесном, а вы в своем.
Евангел расхохотался.
— Вы давно женаты? — спросил майор.
— Семь лет женат, да-с, семь лет, но в том числе она три года была в гусара влюблена, а, однако, еще я всякий день в ней открываю новые достоинства.
— Гм!.. а в гусара-таки была влюблена?
— Ужасно-с! Каких это ей, бедненькой, мук стоило, если бы вы знали! Я ей студентом нравился, а в рясе разонравился, потому что они очень танцы любили, да! А тут гусары пришли, ну, шнурочки, усики, глазки... Она, бедняжка, одним и пленилась... Иссохла вся, до горловой чахотки чуть не дошла, и все у меня на груди плакала. «Зачем, — бывало, говорит, — Паинька, я не могу тебя любить, как я его люблю?»
— Ну, а вы же что?
— Стыдно сказать, право.
— Однако же?
— Да что-с? сижу бывало, глажу ее по головке да и реву вместе с нею. И даже что-с? — продолжал он, понизив голос и отводя майора к окну. — Я уже раз совсем порешил: уйди, говорю, коли со мной так жить тяжело; но она, услыхав от меня об этом, разрыдалась и вдруг улыбается: «Нет, — говорит, — Паинька, я никуда не хочу: я после этого теперь опять тебя больше люблю». Она влюбчива, да-с. Это один, один ее порок: восторженна и в восторге сейчас влюбляется.
— Однако же, черт возьми, позвольте мне вас уважать! — закричал зычно майор.
— Нет-с; это ее надо за это уважать: скудельный сосуд, а совладала с собою, и все для меня!.. А вот и она, Паинька, а что же, душка, водочки-то? — вопросил он входящую жену, увидев, что на подносе, который она несла, не было ни графина, ни рюмки.
— А кто же станет водку пить?
— А вот они, Филетер Иванович.
— Вы пьете разве? — отнеслась попадья к майору и, получив от него короткий, но утвердительный ответ, принесла графин и рюмку и, поставив их на стол, сказала:
— Не хорошо, кто пьет вино.
— Отчего-с? — спросил, принимаясь за рюмку, майор.
— Так... мысли дурные от вина приходят.
— Ну, мне не приходят.
— Как не приходят; а вон вы почему же до сих пор не женитесь?
Майор перестал закусывать и с удивлением смотрел на сидевшую у стола с подпертым на руку подбородочком попадью; но ту это нимало не смутило, и она спокойно продолжала:
— Что вы на меня так смотрите-то? Разве же это хорошо так женщину конфузить?
— Послушайте, моя милая!— ласково заговорил с ней майор, но она его тотчас же перебила.
— Ничего, ничего, «моя милая»! — передразнила его попадья, — не знаю я, что ль? А мне вашей Катерины Астафьевны жалко, — вот вам и сказ, и я насчет вас своему Паиньке давно сказала, что вы недобрый и жестокий человек.
— Вот тебе и раз! Да позвольте же-с: я ведь Катерину Астафьевну все равно люблю-с.
— Да-а! Нет, это не все равно: если вы так, не обвенчавшись, прежде ее умрете, она не будет за вас пенсиона получать.
Попадья говорила все это с самым серьезным и сосредоточенным видом и с глубочайшею заботливостью о Катерине Астафьевне. Ее не развлекал ни веселый смех мужа, наблюдавшего трагикомическое положение Форова, ни удивление самого майора, который был поражен простотой и оригинальностью приведенного ею довода в пользу брака, и наконец, отерев салфеткой усы и подойдя к попадье, попросил у нее ручку.
— Зачем же это? — спросила она.
— Я женюсь и вас матерью посаженою прошу.
— Непременно?
— Всенепременно и как можно скорее; а то действительно пенсион может пропасть.
— Ну, за это вы умник, и я не жалею, что мы познакомились, — отвечала ему весело попадья, с радостью подавая свою руку.
— А я так буду сожалеть об этом, — отвечал, громко чмокнув ее ручонку, Форов. — Теперь мне в первый раз завидно, что у другого человека будет жена лучше моей.
— О, не завидуйте, не завидуйте, ваша добрее.
— Почему же вы это знаете?
— Да ведь она вас целует? Уже наверно целует?
— Случается; редко, но случается.
— Ну вот видите! А уж я бы не поцеловала.
— Это почему?
— Потому что от вас водкой пахнет.
— Покорно вас благодарю-с, — отвечал, комически поклонясь и шаркнув ногой, майор, и затем еще раз поцеловал на прощанье руку у попадьи и откланялся.
Глава двадцать первая. Свадьба Форовых. У калитки, до которой Евангел провожал Форова, майор на минутку остановился и сказал:
— Так как же-с это... того...
— Вы насчет свадьбы?
— Да.
— Что ж, приходите, я перевенчаю и денег за венец не возьму. Приходите вечерком в воскресенье чай пить: я на сих днях огласку сделаю, а в воскресенье и перевенчаемся.
— А не очень это скоро?
— Нет; чем же скоро? чем скорее, тем оно вернее, а то ведь Паинька правду говорит: знаете, вдруг кран-кен, а женщина останется ни при чем.
— Хорошо-с, я приду в воскресенье венчаться. А жена у вас, черт возьми, все-таки удивительная!
— Да ведь я и говорил, что вы на нее будете удивляться и не поймете ее. Я все время за вами наблюдал, как вы с нею говорили, и думал: «ах, как бы этот ее не понял»! Но нет, вижу, и вы не поняли.
— Почему же вы это так думаете? А может быть, я ее и понял?
— Нет, где вам ее понять! Ее один я понимаю. Ну, говорите: кто такая она, по-вашему, если вы ее поняли?
— Она?.. она... положительная и самая реальная натура.
Евангел, что называется, закис со смеху.
— Чего же вы помираете? — вопросил майор.
— А того, что она совсем не положительная и не реальная натура. А она... позвольте-ка мне взять вас за ухо.
И Евангел, принагнув к себе слегка голову майора, прошептал ему на ухо:
— Моя жена дурочка.
— То есть вы думаете, что она не умна?
— Она совершенная дурочка.
— А чем же она рассуждает?
— А вот этим вот! — воскликнул Евангел, тронув майора за ту часть груди, где сердце. — Как же вы этого не заметили, что она, где хочет быть умною дамой, сейчас глупость скажет, — как о ваших белых панталонах вышло; а где по естественному своему чувству говорит, так что твой министр юстиции. Вы ее, пожалуйста, не ослушайтесь, потому что я вам это по опыту говорю, что уж она как рассудит, так это непременно так надо сделать.
Майор посмотрел на священника и, видя, что тот говорит с ним совершенно серьезно, провел себя руками по груди и громко плюнул в сторону.
— Ага! вот, значит, видите, что промахнулись! Ну ничего, ничего: в самом деле не все сразу. Приходите-ка прежде венчаться.
Майор еще раз повторил обещание прийти, и действительно пришел в назначенный вечер к Евангелу вместе с Катериной Астафьевной, которой майор ничего не рассказал о своих намерениях, и потому она была только удивлена, увидя, что неверующий Филетер Иваныч, при звоне к вечерне, прошел вместе с Евангелом в церковь и стал в алтаре. Но когда окончилась вечерняя и среди церкви поставили аналой, зажгли пред ним свечи и вынесли венцы, сердце бедной женщины сжалось от неведомого страха, и она, обратясь к Евангеловой попадье и к стоявшим с нею Синтяниной и Ларисе, залепетала:
— Дружочки мои, а кто же здесь невеста?
— Верно, ты, — отвечала ей Синтянина.
Катерина Астафьевна потерянно защипала свою верхнюю губу, что у нее было знаком высшего волнения, и страшно испугалась, когда майор взял ее молча за руку и повел к аналою, у которого уже стоял облаченный в ризу Евангел и возглашал:
— Благословен Бог наш всегда, ныне и присно.
Во все время венчального обряда Катерина Астафьевна жарко молилась и плакала, обтирая слезы рукавом своего поношенного, куцего коричневого шерстяного платья, меж тем как гривенниковая свеча в другой ее руке выбивала дробь и поджигала скрещенную на ее груди темную шелковую косыночку.
Обряд был кончен, и Евангел первый поздравил майора и Катерину Астафьевну мужем и женой.
Затем их поздравили и остальные друзья, а потом все пили у Евангела чай, ходили с ним на его просо и наконец вернулись к скромному ужину и тут только хватились: где же майорша?
Исчезновение ее удивило всех, и все бросились отыскивать ее, кто куда вздумал. Искали ее и на кухне, и в сенях, и в саду, и на рубежах на поле, и даже в темной церкви, где, думалось некоторым, не осталась ли она незаметно для всех помолиться и не запер ли ее там сторож? Но все эти поиски были тщетны, и гости, и хозяева впали в немалую тревогу.
А Катерина Астафьевна меж тем сидела в небольшой темной пасеке отца Евангела и, прислонясь спиной и затылком к пчелиному улью, в котором изредка раздавалось тихое жужжание пчел, глядела неподвижным взглядом в усеянное звездами небо.
В таком положении отыскал ее здесь майор и, назвав ее по имени, укорял за беспокойство, которое она наделала всем своею отлучкой.
Катерина Астафьевна, не переменяя положения, только перевела на мужа глаза.
— Пойдем ужинать! — звал ее майор.
— Форов! — проговорила она тихо в ответ ему, — скажи мне правду: сам ли ты это сделал?
— Нет, не сам.
— Я так и думала.
— Да; это попадья меня принудила.
— Не сам... попадья принудила, — повторила за ним с расстановкой жена, и с этим вдруг громко всхлипнула, нагнула лицо в колени и заплакала.
— Что же, тебе обидно, что ли? — осведомился майор.
— Конечно, обидно... очень обидно, Форов! — отвечала, качая головой, майорша. — Ты сам в семь лет нашей жизни никогда, никогда про меня не вспомнил.
— Да я никогда и не позабывал про тебя, Тора.
— Нет, забывал; всегда забывал! Верно я скверная женщина: не умела я заслужить у тебя внимания.
— Полно тебе, Торочка! Какого же еще больше внимания, когда ты теперь моя жена?
— Нет, это все не то: это не ты сделал, а Бог так через добрых людей учинил, чтобы сократить число грехов моих, а ты сам... до сих пор башмаков мне не купил.
— Что за вздор такой? Какие тебе нужны башмаки? Разве не у тебя все мои деньги? Я ведь в них отчета не спрашиваю: покупай на них себе что хочешь.
— Нет, это все не то — «покупай», а ты должен помнить, когда у тебя в Крыму в госпитале на ноге рожа была, я тебе из моего саквояжа большие башмаки сшила.
— Ну помню, что ж далее?
— Ты сказал мне тогда, что первый раз как выйдешь, купишь мне башмаки.
— Ну?
— Ну, и я вот семь лет этих башмаков прождала, когда ты их принесешь, и ты их мне не принес.
— Э! полно, мать моя, глупости-то такие припоминать! Вставай-ка, да пойдем ужинать.
И майор взял жену за руку и потянул ее, но она не поднималась: она продолжала сетовать, что ей до сих пор не куплены и не принесены те башмаки, обещание которых напоминало пожилой Катерине Астафьевне тоже не совсем молодое и уже давно минувшее время, предшествовавшее бесповоротному шагу в любви ее к майору.
Филетер Иванович, чтобы утешить жену, поцеловал ее в ее полуседую голову и сказал:
— Куплю, Тора! честное слово, куплю и принесу!
— Нет, я знаю, что не принесешь; ты обо мне не можешь думать, как другие о женщине думают... Да, ты не можешь; у тебя не такая натура, и это мне больно за тебя... потому что ты об этом будешь горько и горько тужить.
— Ну, так что ж, развестись, что ли, хочешь, если я такой подлый?
— Как развестись?
— Как? Разве ты забыла, что ведь мы обвенчались?
Катерина Астафьевна в последние минуты своего меланхолического настроения действительно позабыла об этом, и при теперешнем шуточном напоминании мужа о разводе сердце ее внезапно вскипело, и она, обхватив обеими руками лохматую голову Форова, воскликнула, глядя на небо:
— Боже мой! Боже мой! за что же ты послал мне, грешной, так много такого хорошего счастия?
Глава двадцать вторая. Язык сердца.
Майорша плакала и тужила совсем не о тех башмаках, о которых она говорила: и башмаки, и брак, и все прочее было с ее стороны только придиркой, предлогом к сетованию: душа же ее рвалась к иному утешению, о котором она до сегодняшнего вечера не думала и не заботилась. Зато эта беззаботность теперь показалась ей ужасною и страшною: она охватила все ее существо в эти минуты ее уединения и выражалась в ней теми прихотливыми переходами и переливами разнообразных чувств и ощущений, какие она проявляла в своей беседе с мужем.
— Одного, — говорила она, — одного только теперь я бы желала, и радость моя была бы безмерна... — и на этом слове она остановилась.
— Чего же это?
— Нет, Фор, ты этого не поймешь.
— Да попробуй, пожалуйста.
— Нет, мой Фор, незачем, незачем: этого говорить нельзя, если ты сам не чувствуешь.
— Решительно не чувствую и не знаю, что надо чувствовать, — отвечал майор.
— Ну и прекрасно: ничего не надо. Встань с травы, росно, — и вон все сюда идут.
С этим майорша приподнялась и пошла навстречу шедшим к ней Евангелу, его попадье, Синтяниной и Ларисе.
В походке, которою майорша приближалась к пришедшим, легко можно было заметить наплыв новых, овладевших ею волнений. Она тронулась тихо и шагом неспешным, но потом пошла шибче и наконец побежала и, схватив за руку попадью, остановилась, не зная, что делать далее.
Попадья поняла ее своим сердцем и заговорила:
— Это не я, душка, не я!
— Ну, так ты! — кинулась майорша к Синтяниной.
— И не я, Катя, — отвечала генеральша.
— Ангелы небесные! — воскликнула майорша и, прижав к своим губам руки попадьи и Синтяниной, впилась в них нервным, прерывистым и страстным поцелуем, который, вероятно, длился бы до нового истерического припадка, если б отец Евангел не подсунул шутя своей бороды к лицам этих трех скученных женщин.
Увидав пред собою эту мягкую светло-русую бороду и пару знакомых веселых голубых глаз, Катерина Астафьевна выпустила руки обеих женщин и, кинувшись к Евангелу, прошептала:
— Ах, батюшка... мне так досадно: я хотела бы пред этим... исповедаться... но...
— Но отпущаются тебе все грехи твои, чадо, — отвечал добродушный Евангел, кладя ей на оба плеча свои руки, которые Катерина Астафьевна схватила так же внезапно, как за минуту пред сим руки дам, и так же горячо их поцеловала.
Потом они с Евангелом поцеловали друг друга и при этом перешепнулись: Форова сказала: «Батюшка, простится ли мне?», а Евангел ответил: «И не помянется-с».
И с этим он перехватил ее руку себе под руку, а под другую взял генеральшу и, скомандовав: раз, два и три! пустился резвым бегом к дому, где на чистом столе готов был скромный, даже почти бедный ужин. Но было за этим ужином шумно и весело и раздавались еще после него оживленные речи, которые не все переговорились под кровлей Евангела до поздней ночи, и опять возобновились в саду, где гости и провожавший их хозяин остановились на минуту полюбоваться тихим покоем деревьев, трав и цветов, облитых бледно-желтым светом луны.
Тут, по знаку, данному Евангелом, все в молчании стали прислушиваться к таинственным звукам полуночи: то что-то хрустнет, то вздохнет, шепчет и тает, и тает долго и чуть слышимо уху...
— Люблю эти звуки, — тихо молвил Евангел, — и ухожу часто сюда послушать их; а на полях и у лесов, на опушках, они еще чище. Где дальше человеческая злоба, там этот язык сейчас и звучнее.
Форову это дало случай возразить, что он этой сентиментальности не понимает.
— А вот Гете понимал, — заметил Евангел, — а Иоанн Дамаскин еще больше понимал. Припомните-ка поэму Алексея Толстого; Иоанн говорит: «Неодолимый их призыв меня влечет к себе все более... о, отпусти меня, калиф, дозволь дышать и петь на воле». Вот что говорят эти звуки: они выманивают нас на волю петь из-под сарая.
— Наплевать на этакую волю, чтобы петь да дышать только: мне больше нравятся звуки Марсельезы в рабочих улицах Парижа, — отвечал Форов.
— Париж! город! — воскликнул с кротким предостережением Евангел. — Нет, нет, не ими освятится вода, не они раскуют мечи на орала! Первый город на земле огородил Каин; он первый и брата убил. Заметьте, — создатель города есть и творец смерти; а Авель стадо пас, и кроткие наследят землю. Нет, сестры и братья, множитесь, населяйте землю и садите в нее семена, а не башенье стройте, ибо с башен смешенье идет.
— А в саду Дьявол убедил человека не слушаться Бога, — перебил майор.
— Да, это в Эдемском саду; но зато в Гефсиманском саду случилось другое: там Бог сам себя предал страданьям. Впрочем, вы стоите на той степени развития, на которой говорится «несть Бог», и жертвы этой понять лишены. Спросим лучше дам. Кто с майором и кто за меня?
— Все с вами, — откликнулись попадья, генеральша и майорша.
Лариса вертела в руке одуванчик и молчала.
— Ну, а вы, барышня? — отнесся к ней Евангел.
— Не знаю, — отвечала она, покачав головой и обдув пушок стебелька, бросила его в траву и сказала:
— Не пора ли нам в город?
Это напоминанье было не особенно приятно для гостей, но все стали прощаться с сожалением, что поздно и что надо прощаться с поэтическим попом.
Пылкая Катерина Астафьевна даже прямо сказала, что она с радостью просидела бы тут до утра и всю жизнь прослушала бы Евангела, но попадья ответила ей:
— А я его никогда не слушаю.
— Господи, как все пары курьезно подтасовываются! — воскликнула, смеясь и усаживаясь в экипаж, генеральша.
— Превосходно подтасовываются-с, превосходно-с! — отвечал ей Евангел. — Единомыслие недаром не даровано, да-с! Тогда бы стоп вся машина; тоска, скука и сон согласия, и заслуги миролюбия нет. Все кончено! Нет-с, а вы тяготы друг друга носите, так и исполните закон Христов.
— А как же «возлюбим друг друга»? — заметил майор.
— А так: прежде «возлюбим друг друга» и тогда «единомыслием исповемы», — отвечал ему Евангел, пожимая руку майора и подставляя ему свою русую бороду.
— Да я уже тебя и люблю, — отвечал, обнимая его, майор.
И они поцеловались, и с тех пор, обмолвясь на «ты», сделались теми неразрывнейшими друзьями, какими мы их видели в продолжение всей нашей истории.
Эта дружба противомышленников, соединившихся в единомыслии любви, была величайшею радостью Катерины Астафьевны, видевшей в этом новую прекрасную черту в характере своего мужа и залог того, что он когда-нибудь изменит свои суждения.
Глава двадцать третья. Горшок сталкивается с горшком.
Супружеская жизнь Форовых могла служить явным опровержением пословицы, выписанной над этою главой: у них никогда не было разлада; они не только никогда друг с другом не ссорились, но даже не умели и дуться друг на друга.
«Стоит ли это того, чтобы не ладить?» — говорила себе майорша при каких-нибудь несогласиях с мужем, и несогласия их ладу не мешали.
«Наплевать!» — думал себе майор, если не удавалось ему в чем-нибудь убедить жену, и тоже не находил в этом никаких поводов к разладу.
Катерина Астафьевна помнила слова Евангела, что так даже и необходимо; да и в самом деле, не все ли близкие и милые ей люди несли тяготы друг друга? Много начитанный, поэтический и глубоко проникавший в самую суть вещей Евангел проводил свою жизнь с доброю дурочкой и сделал из нее Паиньку, от которой его, однако, потягивало в поля, помечтать среди ночных звуков; Форов смирился пред лампадами Катерины Астафьевны и ел ради нее целые посты огурцы и картофель, а она... она любила Форова больше всего на свете, отнюдь не считая его лучшим человеком и даже скорбя об его заблуждениях и слабостях. Синтянина... но эта уже несла тяготу, с которой не могла сравниться тягота всех прочих; все они жили с добрыми людьми, которых, вдобавок к тому, любили, а та отдала себя человеку, который был мстителен, коварен, холоден...
Глядя на Евангела, Катерина Астафьевна благословляла жизнь в ее благе; сливаясь душой с душой Синтяниной, она благоговела пред могуществом воли, торжествующим в святой силе терпения, и чувствовала себя исполненной удивления и радости о их совершенстве, до которого сама не мечтала достигнуть, не замечая, что иногда их даже превосходит.
Жизнь ее была так полна, что она никуда не хотела заглядывать из этого мирка, где пред нею стояли драгоценные сосуды ее веры, надежды и любви.
Но ей был нужен и еще один сосуд, сосуд, в который бы лился фиал ее горести: этот сосуд была бессодержательная Лариса.
Мы видели, как майорша хлопотала то устроить, то расстроить племянницыну свадьбу с Подозеровым и как ни то, ни другое ей не удавалось и шло как раз против ее желаний. Когда свадьба эта была уже решена, Катерина Астафьевна подчинилась судьбе, и даже мало-помалу опять начала радоваться, что племянница устраивается и выходит замуж за честного человека. Она даже рвалась помогать Ларисе в ее свадебных сборах и, смиряя свое кипучее сердце, переносила холодное устранение ее от этих хлопот; но того, что она увидела на свадебном пиру Ларисы, Катерина Астафьевна уже не могла перенесть. Никем не замеченная, она ушла домой ни с кем не простясь; сняла, разорвав в нескольких местах, свое новое шерстяное платье и, легши в постель, послала кухарку за гофманскими каплями.
Такое поведение майорши удивило возвратившегося, через час после ее прихода, мужа.
— Ночью посылать женщину за пустыми каплями!.. Какая глупость! — заговорил он, начиная разоблачаться.
Майорша как будто этого только и ждала. Она вскочила и начала майору рацею о том, что для него жена не значит ничего и он, может быть, даже был бы рад ее смерти.
— Нет, я только был бы рад, если бы ты немножечко замолчала, — отвечал спокойно майор.
— Никогда я теперь не замолчу.
— Ну, и очень глупо: ты будешь мешать мне спать.
— А ты можешь спать?
— Отчего же мне не спать?
— Ты можешь... ты можешь спать?
— Да, конечно, могу! А ты почему не можешь?
— Потому, что я не могу спать от мысли, какое несчастие несходная пара.
— Ну, вот еще!.. Наплевать.
И майор поставил на стул свечу, взял книгу и повалился на диванчик.
Майорша дергалась, вздыхала, майор читал и потом вдруг дунул на свечу, повернулся к стене и заснул, но ненадолго.
Услышав, что муж спит, Катерина Астафьевна сначала заплакала, и потом мало-помалу разошлась и зарыдала истерически.
— Что, что, что такое с тобой? — спрашивал спросонья майор.
Она все рыдала.
— Ну, на вот капли, — проговорил он, встав и подавая жене принесенный из аптеки флакончик.
Катерина Астафьевна нетерпеливо отодвинула его руку.
— И из-за чего? Из-за чего? — ворчал он. — Люди женились, да что нам до этого? Не хорошо они будут жить, опять-таки это не наше же дело. Но чтоб из-за этого не спать ночи...
Но майорша вдруг снова вскочила и, передразнивая мужа, заговорила:
— «Не спать ночи! Не спать ночи!» Эка невидаль какая, не спать ночь! Вам это ничего: поделом вам, что вы не спите, а за что вы людям-то добрым дни и ночи испортили?
— Кто это мы?
— Все вы, вот этакие говоруны!.. Это все ты, седой нигилист, да братец ее Иосафушка-дурачок, да его приятели так Ларочку просветили.
— Поп Евангел же ведь ей другое благовествовал. Отчего же ты с него за нее не взыскиваешь?
— Поп Евангел! Нечего вам про попа Евангела. Вам до него далеко; а тут ни поп, ни архиерей ничего не поделают, когда на одного попа стало семь жидовин. Что отец добрый в душу посадит, то лихой гость за один раз выдернет.
— Ну, ты кончила? — вопросил, поворачиваясь в своей постели, майор.
— Нет, не кончила. Вы десятки лет из двора в двор ходите да везде свое мерзкое сомнение во всем разносите, а вам начнешь говорить, — так сейчас в минуту и кончи! Верно, правда глаз колет.
— Я спать хочу.
— А я тебе, седой нигилист, говорю, что ты не должен спать, что ты должен стать на колени, да плакать, да молиться, да говорить: отпусти, Боже, безумие мое и положи хранение моим устам!
— Ну, уж этого не будет.
— Нет будет, будет, если ты не загрубелая тварь, которой не касается человеческое горе, будет, когда ты увидишь, что у этой пары за жизнь пойдет, и вспомнишь, что во всем этом твой вклад есть. Да, твой, твой, — нечего головой мотать, потому что если бы не ты, она либо братцевым ходом пошла, и тогда нам не было бы до нее дела; либо она была бы простая добрая мать и жена, и создала бы и себе, и людям счастие, а теперь она что такое?
— Черт ее знает что?
— Именно черт ее знает что: всякого сметья по лопате и от всех ворот поворот; а отцы этому делу вы. Да, да, нечего глаза-то на меня лупить; вы не сорванцы, не мерзавцы, а добрые болтуны, неряхи словесные! Вы хуже негодяев, вреднее, потому что тех как познают, так в три шеи выпроводят, а вас еще жалеть будут.
— Кончила?
— Нет, да ты и не надейся, чтоб я кончила.
— А это другое дело! — сказал майор и, присевши на свой диван, начал обуваться.
— Что это: ты хочешь уйти? — вопросила его майорша.
— Да, больше ничего не остается.
— И уходи, батюшка, — не испугаешь; а что сказано, то свято.
— Ты сумасшедшая баба.
— Нет, я не сумасшедшая, а я знаю, о чем я сокрушаюсь. Я сокрушаюсь о том, что вас много, что во всяком поганом городишке дома одного не осталось, куда бы такой короткобрюхий сверчок, вроде тебя, с рацеями не бегал, да не чирикал бы из-за печки с малыми детями! — напирала майорша на Филетера Ивановича, встав со своего ложа. — Ну, куда ты собрался! — и майорша сама подала мужу его фуражку, которую майор нетерпеливо вырвал из ее рук и ушел, громко хлопнув дверью.
— А на дворе дождь, — сказала, возвратись назад, кухарка, запиравшая за майором калитку.
— Дождь? зимой дождь? Да, правда, весь день была оттепель и моросило.
Катерина Астафьевна присела и стала слушать, как капли дождя тихо стучали по ставням, точно где-то невдалеке просо просевали.
В таком положении застал ее и возвратившийся через час, весь измокший, майор.
Он вошел несколько запыхавшись и, сняв с себя мокрое пальто и фуражку, прямо присел на край жениной постели и проговорил:
— Знаешь, Торочка, какие дела?
— Нет, Фоша, не знаю; но только говори скорей, Бога ради, а то сердце не на месте. Ты там был?
— Да, почти...
— Сними, дружок, скорей сапоги, а то они небось мокры.
— Нет, ты слушай, что было. Я вышел злой и хотел пройти вокруг квартала, как вдруг мне навстречу синтянинский кучер: пожалуйте, говорит, к генералу, — очень просят.
— Ну! что у них?
— Ничего.
— Да что ты врешь: как ничего?
— Нет, ты слушай. Я был у Синтянина, и выхожу, а дождь как из ведра, и ветер, и темь, и снег мокрый вместе с дождем — словом, халепа, а не погода.
— Бедный.
— Нет, ты слушай: не я самый бедный. Выхожу я на улицу, а впереди меня идет человек... мужчина...
— Ну, мужчина?
— Да; в шинели, высокий... идет тихо и вдруг подошел к углу и этак «фю-фю-фю», посвистал. Я смотрю, что это такое?.. А он еще прошел, да на другом угле опять: «фю-фю-фю», да и на третьем так же, и на четвертом. Кой, думаю себе черт: кто это такой и чего ему нужно? да за ним.
— Ах, Форов, зачем ты это?
— А что?
— Он мог тебя убить.
— Ну, вот же не убил, а только удивил и потешил. Вижу я, что он вошел на висленевский двор, и я за ним, и хап его за полу: что, мол, вам здесь угодно? А он... одним словом, узнаешь, кто это был?
— Боюсь, что узнаю.
— И я боюсь, что ты узнала: это был Андрей Подозеров.
Катерина Астафьевна только рукой хлопнула по постели.
— Поняла? — спросил ее муж.
— Да, да, я все поняла, на своем пиру да без последнего блюда.
— Я ему сказал, что если он не возьмет ее отсюда и не уедет с нею в такое место, где бы она была с ним одна и где бы он мог ее перевоспитать...
Но майорша на этом слове зажала мужу рот и сказала:
— Замолчи, сделай свое одолжение: я не могу этого слушать. Какое перевоспитание? Когда мужу перевоспитывать? Это вздор, вздор, вздор! Хорошо перевоспитывать жен князьям да графам, а не бедным людям, которым надо хребтом хлеба кусок доставать.
— Да и уехать-то еще на горе нельзя!
— И слава Богу.
— Нет, беда!
— Да говори, пожалуйста, сразу!
— Синтянин получил из Питера важные вести. Очень важные, очень важные. Я всего не знаю, и того, что он мне сообщил, сказать не могу, но вот тебе общее очертание дел: Синтянин не простил своего увольнения.
— Я так и думала.
— Нет, не простил! Он как крот копался и, лежа долго на постели, прокопал удивительные ходы. Ты знаешь, кто ему ногу подставил, что он полетел? Это сделал Горданов!.. Теперь понимаешь, какой гусь сей мерзавец Горданов? Но они уж очень заручились и зазнались: Бодростина из Парижа в Петербург святою приехала: Даниила пророка вызывает к себе; муж ее чуть в Сибирь не угодил, и в этой святой да в Горданове своих спасителей видит, а Горданов... Да он тоже слишком уже полагается на свое, так сказать, сверхъестественное положение... Синтянина не надуешь; он все пронюхал и он прав: они не могли все это даром делать, по любви к искусству, нет; их манит преступление, большое, страшное и выгодное...
— Да говори, Форочка, говори: ведь я не болтунья.
— Синтянин думает... что они хотят извести Бодростина и...
— И что еще?
— И не своими руками, а...
— Шепни, дружок, шепни.
— Тут Иосаф и Лариса должны быть на смете.
— Иосаф и Лариса!.. и Лара!
— Ну, так он говорит.
— О! он старый воробей: его не обманешь; но если Горданов то, что ты сказал, так они все совершат, и его не уловишь.
— Горданов то самое, что я сказал. Но ждать недолго. Бодростина, Бодростин, Горданов и дурачок Иосаф все завтра будут сюда и мы посмотрим, кто кого: мы их или они нас?
— Да ты что же, Форов?.. Неужто ты с Синтяниным вместе?
— Фуй!.. Бог меня оборони! — И майор перекрестился и добавил:— Нет, теперь нет союзов, а все на ножах!
Но Катерина Астафьевна не слыхала этих последних слов. Она только видела, что ее муж перекрестился, и, погруженная в свои мысли, не спала всю ночь, ожидая утра, когда можно будет идти в церковь и потом на смертный бой с Ларисой.
«На ножах».
Часть первая. Боль врача ищет.
Часть вторая. Бездна призывает бездну.
Часть третья. Кровь.
Часть четвертая. Мертвый узел.
Часть пятая. Темные силы.
Часть шестая. Через край.
Эпилог.
Примечания.
Художественный фильм, 1-5 серии.
Художественный фильм, 6-11 серии.
|