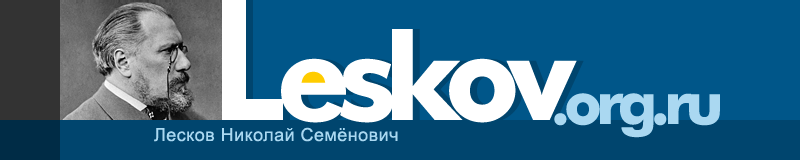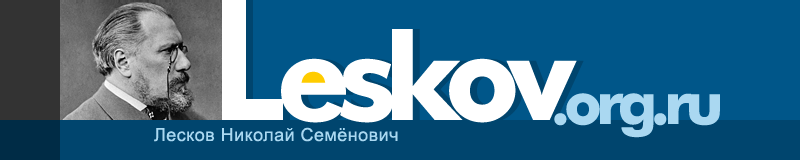|
На ножах.
Часть третья. Кровь.
«На ножах».
Часть первая. Боль врача ищет.
Часть вторая. Бездна призывает бездну.
Часть третья. Кровь.
Часть четвертая. Мертвый узел.
Часть пятая. Темные силы.
Часть шестая. Через край.
Эпилог.
Примечания.
Художественный фильм, 1-5 серии.
Художественный фильм, 6-11 серии.
Глава первая. Кипяток.
Хутор Починок, любимый приют генеральши Синтяниной, отстоит от города в восьми верстах. Справа от него, в трех верстах, богатое Бодростинское подгородное имение, влево торговое село Рыбацкое и Ребров хутор, куда майор Филетер Иванович Форов постоянно ходил к другу своему, отцу Евангелу. Починок стоял в низменности, между двумя плоскогорьями, занятыми селом Рыбацким и обширною барскою Бодростинскою усадьбой, старый английский парк которой достигал до самого рубежа Починских полей. Починок, которым владели Синтянины, и Ребров хутор, на котором жил при церкви отец Евангел, были маленькие поселки, их почти и не видать было между селами Бодростиным и Рыбацким. Весной, когда полевые злаки еще не поднялись над землей выше чем прячется грач, хуторки еще чуть-чуть обозначались, словно забытые копенки прошлогоднего сена, но чуть лишь нива забирала силу и шла в рост, от ветхого купола ребровской колокольни только мелькал крестик. Что же касается до Синтянинского хутора, то его и совсем нельзя было видеть, пока к нему не подъедешь по неширокой, малопроезжей дорожке, которая отбегала в сторону от торной и пыльной дороги, соединяющей два большие села на крайних точках нагорного амфитеатра.
Хутор Починок возник потому, что протекающий здесь небольшой ручеек подал одному однодворцу мысль поставить тут утлую мельницу, из разряда известных в серединной России «колотовок», и в таком виде, с одною мельничною избой, этот хутор-невидимка был куплен генералом Синтяниным, жена которого свила себе здесь гнездышко. Хуторок и теперь такой же невидимка, но он уже не тот бобыльник, каким был в однодворческих руках: на него легла печать рачения и вкуса. Никаких затей и претензий здесь нет и следа, но как только вы обогнули маленький зигзаг по малопроезженной дорожке, пред вами вырастают исправные соломенные крыши очень дружественно расположившихся строений. Небольшой ручеек, бегущий с гор из-под леса по ржавым потовинам, здесь перехвачен плотинкой и образует чистый, блестящий прудок, в котором вода тиха как в чаше; на этом пруде стоит однопоставная меленка с маленькою толчеей для льна. Это центральное место, к которому все другие строения поселка как будто бы чувствуют почтение: сараи, сарайчики, амбары, амбарушки, хлевки и закутки, — все это с разных сторон обступило мельницу, поворотилось к ней лицом, смотрит на ее вращающееся колесо, как безграмотные односельчане глядят на старушку, сотый раз повторяющую им по складам старую тихоструйную повесть.
Господского домика вовсе не видно и его собственно здесь и нет, потому что небольшая, оштукатуренная пристройка при высоком сосновом амбаре никак не имеет права претендовать на звание самого скромного господского домика, но эта пристройка и есть жилье Александры Ивановны Синтяниной. Здесь две небольшие комнаты, под окнами которых разбит маленький цветник, засеянный неприхотливыми душистыми цветками. Небольшой плодовый садик полон густого вишняка и малины; за этим садиком есть небольшой, очень стройный молодой осинник, в котором бьет студеный родник прекрасной воды и пред ним устроены небольшая деревянная беседочка и качели. Растительность на хуторе вообще довольно сильная; все свежо, сильно, бодро, зелено, но не высоко: прибрежные лозы пруда, ракиты, окружающие все пристройки, и владимирские вишни, и сливы, и груши, и все это как будто решилось скрываться и не тянулось вверх. Только одни осинки выбежали немножко повыше и постоянно шепчут своими трепещущими листками о том, что видят за каймой этой маленькой усадьбы.
Стояли последние жаркие дни августа, на дворе был пятый час, но солнце, несмотря на свое значительное уклонение к западу, еще жгло и палило немилосердно. В небольшой комнатке оштукатуренной пристройки, составлявшей жилье Александры Ивановны Синтяниной, ставни обоих окон были притворены, а дверь на высокое крыльцо, выходившее на теневую сторону, раскрыта настежь. Здесь, в небольшой комнате, уставленной старинною мебелью, помещались теперь два знакомые нам лица: сама генеральша и друг ее, майорша Катерина Астафьевна Форова. Александра Ивановна писала пред старинным овальным столом, утвержденным на толстой тумбе, служившей маленьким книжным шкафом, а майорша Катерина Астафьевна Форова, завернутая кое-как в узенькое платье, без шейного платка и без чепца, сидела на полу, лицом к открытой двери, и сматывала на клубок нитки, натянутые у нее на выгнутых коленах. Она, очевидно, была не в духе, постоянно скусывала зубами узелки, сердилась и ворчала.
— Ах, чтобы вам совсем пусто было! — повторила она в двадцатый раз, бросив на пол клубок и принимаясь теребить на коленах запутанные нитки.
Этим восклицанием нарушилась царствовавшая в комнате глубокая тишина, и Александра Ивановна остановила свое перо и, приподняв лицо, взглянула на майоршу.
— Чего ты на меня смотришь? — спросила Форова, не видя, но чувствуя на себе взгляд своего друга.
— Я все слушаю, с кем ты это перебраниваешься?
— Сама с собою бранюсь, с кем же мне больше браниться?
Синтянина замолчала и снова взялась за перо.
Прошла минута, и щелканье наматываемой нитки вдруг опять оборвалось, и опять послышался восклик Форовой: «пусто б вам было!»
— Перестань, Катя, браниться, — отозвалась Синтянина. — Не стыдно ли тебе срывать свою досаду на нитках?
— Я, милая, ведь сказала тебе, что я на себе ее срываю.
— И на себя тебе не за что злиться.
— Да вот забыла, о чем с мужем после свадьбы говорила, оттого и ниток не распутаю. На свою память сержусь, — и с этим майорша, отбросив клубок, схватила жестянку из-под сардинок, в которой у нее лежали ее самодельные папироски и спички, и закурила.
— А я между тем, пока ты злилась, кончила письмо, — сказала Синтянина, пробегая глазами листок.
— Ну, и прекрасно, что кончила, я очень рада: конец всему делу венец.
— Ты хочешь послушать, что я ему написала?
— М... м... м... это, мой друг, как тебе угодно.
— Да полно тебе в самом деле дуться! Что это за вздор такой: дуешься на меня, дуешься на своего мужа и на весь свет, и все из-за постороннего дела. Глупо это, Катя!
— Во-первых, я не дуюсь на весь свет, потому что хоть я, по твоим словам, и глупая, но знаю, что весь свет моего дутья не боится, и во-вторых, я не в тебя и не в моего муженька, и дел близких мне людей чужими не считаю.
Синтянина встала, подошла к Форовой, опустилась возле нее на пол, покрыв половину комнаты волнами своего светлого ситца, и, обняв майоршу, нежно поцеловала ее в седую голову.
— Катя, — сказала она, — ты сердишься понапрасну, и когда ты одумаешься, ты увидишь, что ты была очень не права и предо мной, и пред твоим мужем.
— Никогда я с этим не соглашусь, — отвечала Форова, — никогда не стану так думать, я не стану так жить, чтобы молчать, видючи, как моих родных... близких людей мутят, путают. Нет, никогда этого не будет; я не перестану говорить, я не замолчу; не стану по-вашему хитрить, лукавить и отмалчиваться.
— Но постой же ты, пламень огненный, ведь ты же и не молчала, и ведь ты не молчишь, ты все говоришь Ларисе, а что из этого проку!
— Да и не молчу, и не молчу, а говорю!
— И уж рассорилась с ней?
— Да, и рассорилась, и что же такое что рассорилась? И она не велика персона, чтоб я ее боялась, да и с меня от ее слов позолота не слиняла: мы свои люди, родные, побранились да и только. Она меня выгнала из дома, ну и прекрасно: на что дура-тетка в доме, когда новые друзья есть?
— Ну, и что же из этого вышло хорошего?
— Хорошего? Ничего не вышло хорошего, да и быть нечему, потому что я только одна и говорю, все потакают, молчат. Что же делать? Один в поле не воин. Да; а ты вот молчишь... ты, которой поручала ее мать, которою покойница, можно сказать, клялась и божилась в последние дни, ты молчишь; Форов, этот ненавистный человек, который... все-таки ей по мне приходится дядя, тоже молчит, да свои нигилистические рацеи разводит; поп Евангел, эта ваша кротость сердечная, который, по вашим словам, живой Бога узрит, с которым Лара, бывало, обо всем говорит, и он теперь только и знает, что бородой трясет, да своими широкими рукавищами размахивает; а этот... этот Андрей... ах, пропади он, не помянись мне его ненавистное имя!..
— Боже, Боже, как ослепляет тебя гневливость!
— Не говори! Не уговаривай меня и не говори, а то меня еще хуже злость разбирает. Вы бросили мою бедную девочку, бросили ее на произвол ее девичьему разуму и отошли к сторонке, и любуются: дескать, наша хата с краю, я ничего не знаю, иди себе, бедняжка, в болото и заливайся.
Форова быстро сорвала с коленей моток ниток, швырнула его от себя далеко прочь, в угол, и, закрыв руками лицо, начала тихо всхлипывать.
— Катя! перестань плакать, Бога ради, перестань! — начала успокоивать ее Синтянина, отводя ее руки и стараясь заглянуть ей в глаза.
— Нельзя мне, Саша, перестать, нельзя, нельзя, потому что моя Лара... моя бедная девочка... пропала! Моя бедная, бедная девочка!
— Не преувеличивай; ничего худого с Ларисой не сталось, и время еще не ушло ее воротить.
— Нет, нет; я плачу не напрасно: сталось плохое и скверное, да, да... я знаю, о чем я плачу, — отвечала Форова, торопливо обтирая рукой глаза. — Время, Саша, ушло, ушло золотое времечко, когда она была с нами.
— Ну, и что же с этим делать? Ты, Катя, чудиха, право: ведь она девушка, уж это такой народ неблагодарный: как их ни люби, а придет пора, они не поцеремонятся и отшатнутся, но потом и опять вспомнят друзей.
— Да я дура, что ли, в самом деле, что я этого не понимаю? Нет, я плачу о том, что она точно искра в соломе, так и гляжу, что вспыхнет. Это все та, все та, — и Форова заколотила по ладони пальцем. — Это все оттого, что она предалась этой змее Бодростинихе... Эта подлая Глафирка никогда никого ни до чего доброго не доведет.
— Ах, Катя! Это даже неприятно! Ну, как тебе не стыдно так браниться!
— А что же мне остается делать как не браниться? Вы ведь умные, воспитанные, и я не мешаю вам молчать, а я дура, и вы не мешайте мне браниться.
— Ты в самом деле говоришь Бог знает что.
Форова обтерла глаза и, низко поклонясь, сказала смиренным голосом:
— Да, я говорю Бог знает что, простите Христа ради меня, дуру, что я вам досаждаю. Я вам скоро не стану более докучать. Я вижу, что я точно стала глупа, и я уйду от вас.
И Катерина Астафьевна в самом деле встала, подняла из-под стула свой заброшенный моток и начала его убирать.
— Куда же ты уйдешь? — спросила ее, улыбаясь, Синтянина.
— Это мое дело: куда ни пойду, а уж мешать вам не стану; слава Богу, еще на свете монастыри есть.
— Но ты замужем, тебя в монастырь не примут.
— Я развод возьму.
Синтянина рассмеялась.
— Нечего, нечего потешаться! Нынче всем дают разводы, Саша, на себя грех возведу и разведусь.
— И тебе не стыдно нести такой вздор?
— Ну, так я без развода пойду на бедные церкви собирать.
— Вот это другое дело!
— Да, «другое». Нечего, нечего тебе на меня смотреть да улыбаться.
— Я теперь вовсе не улыбаюсь.
— Это все равно; я вижу, что у тебя на душе, да Бог с тобой, я тебе очень благодарна, ты была ко мне добра, но теперь ты совсем переменилась. Бог с тобой, Саша, Бог с тобой!
— Неправда, Катя, неправда!
— Нет, я все вижу, я все вижу. Я прежде для тебя не была глупа.
— Ты и теперь для меня не глупа. Кто тебе сказал, что ты глупа? Ты это сама себе сочинила.
— Да, я сама сочинила, я все сама себе сочиняю. Я сочинительница: «Петербургские трущобы» это я написала. И я тоже счастливая женщина; очень счастливая, как же не счастливая? Все видят, что я поперек себя шире, это все видят, а что делается у меня в сердце, до этого никому дела нет.
— Да что там делается-то, в твоем сердце? Этого даже не разобрать за твоим кипяченьем.
— А что делается? Ты думаешь, мне легко, что я хожу да ругаюсь, как Гаврилка в распивочной? Нет, друг мой, один Бог видит, как мне самой это противно, но не могу, как вспомню, что это сделалось, что Подозеров отказался, что она живет у Бодростиной, где этот вор Горданов, и не могу удержаться. Помилуй и сама посуди: жили мы все вместе, были друзья-приятели; годы целые прошли как мы иначе и не располагались, что Лариса будет за Подозеровым, и весь город об этом говорил, и вдруг ни с того, ни с сего разрыв, и какой разрыв: ни село, ни пало и разошлись. Кто это сделал? Как ты хочешь, а это не само же собой случилось: он ее любил без понятия и все капризы ее знал, и самовольство, и все любил; всякий, кто его знает, должен сказать, что он человек хороший, она тоже... показывала к нему расположение, и вдруг поворот: она дома не живет, а все у Бодростиной; он прячется, запирается, говорят, уехать хочет... Что же это такое?
— Ты говорила об этом с Ларисой?
— Обо всем в подробности. Я уж взяла на себя такое терпенье, одна в доме неделю сидела и дождалась ее на минуту, но что же с ней говорить: она вся в себя завернулась, а внутри как искра в соломе, вот-вот да и вспыхнет. «Я уважаю, говорит, Подозерова, но замуж за него идти не хочу». Я с нею сцепилась и говорю: какого же еще, какого тебе, царевна с месяцем под косой, мужа нужно? Вычитываю ей: он человек трудящий, трезвый, честный, образованный, нрава прекрасного, благородный, всем нравится, а она вдруг отвечает, что она очень рада, что он всем нравится, и желает ему счастия.
— Она сказала это искренно?
— Совершенно искренно, с полным спокойствием и даже с радостью объявила, что Андрей Иваныч сам от нее отказался. Я просто этому сначала не поверила. Помилуй, что же это за скачки такие? Я пошла к нему, но он три дня заперт как кикимора, и видеть его нельзя; мужа посылала — нейдет, поп — нейдет; тебя просила написать, ты не писала...
— Я написала, вот слушай, что я ему написала.
Синтянина вынула из незаклеенного конверта листок и прочитала: «Уважаемый Андрей Иванович! Вы не один раз говорили мне, что вы дружески расположены ко мне и даже меня уважаете; мне всегда было приятно этому верить, тем более, что я и сама питаю к вам и дружбу, и расположение, без этого я и не решилась бы сказать вам того, что пишу вам во имя нашей испытанной дружбы. Меня удивляет ваше поведение по отношению ко всем нам, свыкшимся с мыслию, что мы друзья. Зачем вы нас покинули, заключились под замок и избегаете встречи с нами, как с злейшими своими врагами? Я вас не понимаю. Я знаю, что вы переносите незаслуженные неприятности, но разве это повод оскорблять людей, искренно к вам расположенных? Говорят, что вы хотите совсем уйти от нас? и слухи эти, по-видимому, имеют основание. Катерина Астафьевна Форова узнала, что вы продаете вашу мебель и вашу лошадку...»
— Нет, этого не нужно ему писать, — перебила Форова.
— Отчего же?
— Так; не нужно; я не хочу, чтоб он знал, что я им интересуюсь, едет, и пусть ему скатертью дорожка.
Александра Ивановна пожала плечами и, обмочив в чернила перо, тщательно зачеркнула все, что касалось Форовой, и затем продолжала:
«Если неприятности, выпадающие здесь на вашу долю, так велики, или если вы так слабы, что не можете долее переносить их, то, конечно, все, что мы можем сказать, это: дай Бог вам лучшего. Мое мнение таково, что нет на свете обитаемого уголка, где бы не было людей, умеющих и желающих досаждать ближнему, и потому я думаю, что в этом отношении все перемены не стоят хлопот, но всякий чувствует и переносит досаду и горести по-своему, и оттого в подобных делах никто никому не указчик. Одно, чего вправе желать от вас и что может себе позволить высказать вам ваша дружба, это, чтобы вы не огорчали ее сомнениями. Прошу вас прекратить свое заключение и приехать ко мне на хуторок, где наша тишь постарается успокоить ваши расходившиеся нервы, а наша скромность, конечно, не станет укорять вас за отчуждение от любящих вас людей. Я вас жду, потому что у меня есть дело, по которому я непременно должна поговорить с вами».
— Хорошо? — спросила Синтянина, докончив чтение.
— Прескверно.
— Отчего?
— Да что же тут написано? — ничего. Ты его еще и ублажаешь.
— А ты хочешь, чтоб я его бранила в письме? Ну извини меня, милая Катя, я этого не сделаю.
— Я этого и ожидала: я знаю, что он тебе дороже...
Синтянина слегка смутилась, но тотчас поправилась и отвечала:
— Да; ты отгадала: я не разделяю к нему твоих нынешних чувств, я его... считаю достойным... полного уважения.
— И любви.
— Да; и любви. Я сейчас посылаю это письмо, — посылаю его при тебе без всяких добавок, и уверена, что не пройдет двух часов, как Подозеров приедет, и я буду говорить с ним обо всем, и получу на все ответы, самые удовлетворительные.
С этим Александра Ивановна подошла к окну и, толкнув рукой закрытую ставню, произнесла:
— Ба! вот сюрприз: он здесь.
— Кто? где!
— Подозеров! И посмотри ты на него, как он, бедняга, измучен и бледен!
Форова подошла и стала молча за плечом хозяйки. Подозеров сидел на земляной насыпи погреба и, держа в левой руке своей худую и бледную ручку глухонемой Веры, правою быстро говорил с ней глухонемою азбукой. Он спрашивал Веру, как она живет и что делала в то время, как они не видались.
— Вы учились? — спросил он.
— Нет, — отвечала грустно девочка, глядя на него глазами, полными мучительной тоски.
— Отчего?
— Меня оставила память.
Подозеров крепко сжал бледную ручку ребенка и, поцеловав ее, остался наклоненным к нежной головке Веры.
— Как он постарел, — шепнула Форова.
— Ужасно, просто ужасно, — отвечала Синтянина и громко позвала гостя по имени.
Подозеров поднял голову и улыбнулся. На бледно-желтом лице его лежала печать тяжелого страдания, только что осиленного мучительной борьбой.
— Приоденься немножко здесь, а я выйду к нему туда, и мы пройдем в осинник, — проговорила Синтянина, выходя и пряча в карман ненужное теперь письмо.
Форова быстрым движением остановила ее у двери и с глазами, полными слез, заботливо ее перекрестила.
— Хорошо, хорошо, — отвечала Синтянина, — я обо всем переговорю.
Форова прижалась горячими губами к ее щеке и прошептала:
— Он мне ужасно жалок, Саша.
— Все жалки, друг мой, все, кто живет живою душой: так суждено, — и с этими словами Синтянина вышла на крыльцо и приветливо протянула обе руки Подозерову.
Глава вторая. Женский ум после многих дум.
Прошло более часа. Александра Ивановна, сидя с Подозеровым вдвоем в своем осиновом лесочке, вела большие дружеские переговоры. Она начала с гостем без больших прелюдий и тоном дружбы и участия, довольно прямо спросила его, что за слухи носятся, будто он оставляет город.
— Это совершенная правда, — отвечал Подозеров.
— Можно спросить, что же этому за причина?
— Причин, Александра Ивановна, целая область и, пожалуй, нет ни одной: это зависит от того, как кто захочет смотреть на дело.
— А вы как на него смотрите?
— Я? я просто устал.
— От борьбы?
— Нет, скорее, от муки. Мучился, мучился и устал.
— Это, значит, что называется, не справился?
— Как хотите называйте: нельзя против рожна прать.
— Вы в самом деле имеете очень измученный вид.
— Да; я не особенно хорошо себя чувствую.
Синтянина вздохнула.
— Я знаю только ваши служебные столкновения с губернатором, с Бодростиным, — начала она после паузы, — и более не вижу пред вами никаких рожнов, от которых бы надо бежать. Служба без неприятностей никому не обходится, на это уж надо быть готовым, и честный человек, если он будет себя выдерживать, в конце концов, всегда выиграет; а в вас, я вижу, нет совсем выдержки, цепкости нет!
— Как во всех русских людях.
— Не во всех, люди дурных намерений в наше время очень цепки и выдержанны, а вот добрые люди, как вы, у нас на наше горе кипятятся и дают всякой дряни перевес над собою.
— Это правда.
— Так надо исправиться, а не сдаваться без боя. Я женщина, но я, признаюсь вам, такой уступчивости не понимаю. Вы человек умный, честный, сердечный, чуткий, но вы фантазер. Не нужно забывать, что свет не нами начался, не нами и кончится: il faut prendre le monde comme il est 1.
— Поверьте, я, может быть, меньше всех на свете думаю о переделке мира. Скажу вам более: мне так опостылели все эти направления и настроения, что я не вспоминаю о них иначе как с омерзением.
— Верю.
— У меня нет никаких пристрастий и я не раб никаких партий: я уважаю и люблю всех искренних и честных людей на свете, лишь бы они желали счастия ближним и верили в то, о чем говорят.
— Знаю; но вы виноваты не пред миром, а прежде всех пред самим собою и пред близкими вам людьми. Вы сами с собою очень перемудрили.
1 Нужно принимать свет таким, как он есть (фр.).
Подозеров наморщил брови.
— Позвольте, — сказал он, — «сам пред собою» — это ничего, но «пред близкими вам людьми...» Перед кем же я виноват? Это меня очень интересует.
— Я удовлетворяю ваше любопытство: например, здесь, у меня, мой друг, Катерина Астафьевна, вы пред ней виноваты.
— Я, пред Катериной Астафьевной?
— Да; она на вас рвет и мечет.
— Я это знаю.
— Знаете?
— Да; мы с ней недавно встретились, она мне не хотела поклониться и отвернулась.
— Да; она уже такая неуемная; а между тем она вас очень любит.
— Она очень добра ко всем.
— Нет; она вас любит больше, чем других, и знаете, за что и почему.
— Не знаю.
— Ну, так я вам скажу: потому что она любит Ларису.
Произнеся эту фразу, Синтянина потупилась и покраснела.
Подозеров молчал.
Прошла минутная пауза, и Синтянина, разбиравшая в это время рукой оборки своего платья, вскинула наконец свои большие глаза и проговорила ровным, спокойным тоном:
— Андрей Иваныч, что вы любите Ларису, это для нас с Катей, разумеется, давно не тайна, на то мы женщины, чтобы разуметь эти вещи; что ваши намерения и желания честны, и в этом тоже, зная вас, усомниться невозможно.
— Не сомневайтесь, пожалуйста, — уронил Подозеров, сбивая щелчками пыль с своей фуражки.
— Но вы вели себя по отношению к любимой вами девушке очень нехорошо.
— Чем, например, Александра Ивановна?
— А хоть бы тем, Андрей Иваныч, что вы очень долго медлили.
— Я медлил потому, что хотел удостовериться: разделяют ли хоть мало мою склонность.
— Да; извините меня, я вас буду допрашивать немножко как следователь.
— Сделайте милость.
— Но не скрою от вас, что делаю это для того, чтобы потом, убедясь в правоте вашей, стать горячим вашим адвокатом. Дело зашло так далеко, что близким людям молчать долее нельзя: всем тем, кто имеет какое-нибудь право вмешиваться, пора вмешаться.
— Нет, Бога ради, не надо! — вскрикнул, вскочив на ноги, Подозеров. — Это все уже ушло, и не надо этого трогать.
— Вы ошибаетесь, — ответила, сажая его рукой на прежнее место, Синтянина, — вы говорите «не надо», думая только о себе, но мы имеем в виду и другую мучающуюся душу, с которою и я, и Катя связаны большою и долгою привязанностию. Не будьте же эгоистом и дозвольте нам наши заботы.
Подозеров молчал.
— Лариса ведь не счастливее вас; если вы хотите бежать куда глаза глядят, то она тоже бежит невесть куда, и вы за это отвечаете.
— Я! я за это отвечаю?
— А непременно! Конечно, отвечаете не суду человеческому, но суду Божию и суду своей совести. Вы делали ей не так давно предложение?
— Да, делал.
— Значит, вы убедились, что она разделяет вашу склонность?
— М... м... не знаю, что вам ответить... мне так казалось.
— Да, и вы не ошиблись: Лариса, конечно, отличала и отличает вас как прекрасного человека, внимание которого делает женщине и честь, и удовольствие; но что же она вам ответила на ваши слова?
— Она сначала хотела подумать, — проговорил, подавляя вздох, Подозеров.
— Не припомните ли, когда именно это было?
— Очень помню: это было за день до внезапного приезда ее брата и Горданова.
— И Горданова, — это так; но что же она вам сказала, подумав?
— Потом, подумав, она сказала мне... что она готова отдать мне свою руку, но...
— Но что такое но?
— Но что она чувствует, или, как это вам выразить?.. что она не чувствует в себе того, что она хотела бы или, лучше сказать, что она считала бы нужным чувствовать, давая человеку такое согласие.
Генеральша подумала, сдвинув брови, и проговорила:
— Что же это такое ей надо было чувствовать?
— Дело очень просто: она меня не любит.
— Вы можете и ошибаться.
— Только не на этом случае.
— Ну так я повторяю вам и даже ручаюсь, что здесь возможна большая ошибка, и во всем том, что случилось, виноваты вы, и вы же виноваты будете, если вперед случится что-нибудь нежеланное. Вы что ей ответили при этом разговоре?
— Я тоже просил времени подумать.
Синтянина рассмеялась.
— Да нельзя же было, Александра Ивановна, ничего иного сказать на такой ответ, какой она дала мне.
— Конечно, конечно! Он «сказал», «она сказала», и все на разговорах и кончили. Что такое в этих случаях значат слова? Слова, остроумно кем-то сказано, даны затем, чтобы скрывать за ними то, что мы думаем, и женские слова таковы бывают по преимуществу. Добейтесь чувства женщины, а не ее слов.
— Добиться?.. Мне, признаюсь, это слово и не нравится.
— Да, да; добиться, настойчиво добиться. Добиваетесь же вы почестей, влияния, а женщина одна всего этого стоит. Так добивайтесь ее.
— Я верю в одни свободные, а не внушенные чувства.
— А я вам по секрету сообщу, что это никуда не годится. Если каждый случай требует своей логики от человека, то тем более каждый живой человек требует, чтоб относились к нему, как именно к нему следует относиться, а не как ко всем на свете. Простите, пожалуйста, что я, женщина, позволяю себе читать такие наставления. Вы умнее меня, образованнее меня, конечно, уж без сравнения меня ученее и вы, наконец, мужчина, а я попечительница умственных преимуществ вашего пола, но есть дела, которые мы, женщины, разбираем гораздо вас терпеливее и тоньше; дела сердца по нашему департаменту.
— Пожалуйста, говорите не стесняясь, я вас внимательно слушаю.
— Очень вам благодарна за терпение; я вам, кроме добра, ничего не желаю.
Подозеров протянул свою руку и пожал руку генеральши.
— Позвольте сказать вам, что вы много виноваты пред Ларой своими необыкновенными к ней отношениями: я разумею: необыкновенно благоразумными, такими благоразумными, что бедная девушка, по милости их, свертелась и не знает, что ей делать. Вы задались необыкновенно высокою задачей довести себя до неслыханного благородства.
— То есть до возможного.
— Да; вся ваша жизнь, проходившая здесь, на наших глазах, была какое-то штудированье себя. Скажите, что до всего этого молодой девушке? Что же вы делали для того, чтоб обратить к себе ее сердце? Ничего!
— Вы правы... Я, кажется, ничего не делал.
— Кажется! Нет, Андрей Иваныч, это не кажется, а вы, действительно, ничего не делали того, что должны бы были делать. Вы были всегда безукоризненно честны, но за это только почитают; всегда были очень умны, но... женщины учителей не любят, и... кто развивает женщину, тот работает на других, тот готовит ее другому; вы наконец не скрывали, или плохо скрывали, что вы живете и дышите одним созерцанием ее действительно очаровательной красоты, ее загадочной, как Катя Форова говорит, роковой натуры; вы, кажется, восторгались ее беспрерывными порываниями и тревогами, но...
Тот сердце женщин знает плохо,
Тот вовсе их не мог понять,
Кто лишь мольбой и силой вздоха
Старался чувства им внушать.
До побежденных женщинам нет дела! Видите, какая я предательница для женщин; я вам напоминаю то, о чем должна бы стараться заставить вас позабыть, потому что Байрон этими словами, действительно, говорит ужасную правду, и дает советы против женщин:
Не рабствуй женщине!
Умей сдержать порывы ласки,
Под внешним льдом наружной маски,
Умей в ней чувства разбудить,
Тогда она начнет любить!
— Это все учит хитрости, а я ее ненавижу и не хочу.
— Это учит житейскому такту, Андрей Иваныч. Вы так мило боитесь хитрости и рветесь к прямоте... Да кто, какая честная душа не хотела бы лететь к своим целям прямо как стрела? Но на каждом шагу есть свое но, и стреле приходится делать зигзаги, чтобы не воткнуться в дерево. Кто говорит против того, что с полною искренностию жить лучше, но надо знать, с кем можно так жить и с кем нет? Скажу примером: если бы дело шло между мною и вами, я бы вам смело сказала о моих чувствах, как бы они ни были глубоки, но я сказала бы это вам потому, что в вас есть великодушие и прямая честь, потому что вы не употребили бы потом мою искренность в орудие против меня, чтобы щеголять властью, которую дало вам мое сердце; но с другим человеком, например с Иосафом Платоновичем, я никогда бы не была так прямодушна, как бы я его ни любила.
— Вы бы даже кокетничали?
— Если бы любила его и хотела удержать? Непременно! Я бы ему дала столько, сколько он может взять для своего счастия, и не ввела бы его в искушение промотать остальное.
— Так и я должен был поступать?
— Так и вы должны были поступать, и это было бы полезно не для одного вашего, но и для ее счастия.
— Но это мне не было бы легко.
— И очень, на том и ловятся мужчины — хорошие: негодяи гораздо умней, те владеют собой гораздо лучше. Вы позвольте мне вас дружески спросить в заключение нашей долгой беседы: вы знаете ли Ларису?
— Мне кажется.
— Вы ошибаетесь: вы ее любите, но не знаете, и не смущайтесь этим: вы в этом случае далеко не исключение, большая часть людей любит, не зная, за что любит, и это, слава Богу, потому, что если начать разбирать, то поистине некого было бы и любить.
— Сделайте исключение хоть для героя или для поэта.
— Бог с ними — ни для кого; к тому же, я терпеть не могу поэтов и героев: первые очень прозаичны, докучают самолюбием и во всем помнят одних себя, а вторые... они совсем не для женщин.
— Вы, однако же, не самолюбивы.
— Напротив: я безмерно самолюбива, но я прозаична; я люблю тишь и согласие, и в них моя поэзия. Что мне в поэте, который приходит домой брюзжать да дуться, или на что мне годен герой, которому я нужна как забава, который черпает силу в своих, мне чуждых, борениях? Нет, — добавила она, — нет; я простая, мирная женщина; дома немножко деспотка: я не хочу удивлять, но только уж если ты, милый друг мой, если ты выбрал меня, потому что я тебе нужна, потому что тебе не благо одному без меня, так (Александра Ивановна, улыбаясь, показала к своим ногам), так ты вот пожалуй сюда; вот здесь ищи поэзию и силы, у меня, а не где-нибудь и не в чем-нибудь другом, и тогда у нас будет поэзия без поэта и героизм без Александра Македонского.
Подозеров молча смотрел во все глаза на свою собеседницу и лицо его выражало: «ого, вот ты какая!»
— Вы меня такой никогда себе не представляли? — спросила Синтянина.
— Да; но ведь слова, по-вашему, даны затем, чтобы скрывать за ними чувства.
— Нет; я серьезно, серьезно, Андрей Иваныч, такова.
— Вы утверждаете, что за достоинства нельзя любить?
— Нет, можно, но это рискованно и непрочно.
— Pour rien верней? [Ни за что (фр.)]
— О, несравненно! В достоинствах можно ошибиться; притом, — добавила она, вздохнув, — один всегда достойнее другого, пойдут сравнения и выводы, а это смерть любви; тогда как тот иль та, которые любимы просто потому, что их любят, они ничего уж не потеряют ни от каких сравнений.
— Итак. …
— Итак, — перебила его, весело глядя, генеральша, — мы любим pour rien, и должны добиваться того, что нам мило.
— А если оно перестанет быть мило?
Синтянина зорко посмотрела ему в глаза и отвечала:
— Тогда не добиваться; но чем же будет жизнь полна? Нет, милое, уж как хотите, будет мило.
— Тогда любить... что совершеннее, что выше, и любить, как любят совершенство.
— Только?
— Да.
— Так дайте мне такого героя, который бы умел любить такою любовью.
— Не верите?
— Нет, верю, но такой герой, быть может, только... тот... кто лучше всех мужчин.
— Да, то есть женщина?
Александра Ивановна кивнула молча головой.
— Итак, программа в том: любить pour rien и попросту, что называется, держать человека в руках?
— Непременно! Да ведь вы и сами не знаете, к чему вам всем ваша «постылая свобода», как называл ее Онегин? Взять в руки это вовсе не значит убить свободу действий в мужчине или подавить ее капризами. Взять в руки просто значит приручить человека, значит дать ему у себя дома силу, какой он не может найти нигде за домом: это иго, которое благо, и бремя, которое легко. На это есть тысячи приемов, тысячи способов, и их на словах не перечтешь и не передашь, — это дело практики, — докончила она и, засмеявшись, сжала свои руки на коленях и заключила, — вот если бы вы попали в эти сжатые руки, так бы давно заставила вас позабыть все ваши муки и сомнения, с которыми с одними очень легко с ума сойти.
Подозеров встал и, бросив на землю свою фуражку, воскликнул:
— О, умоляю вас, позвольте же мне за одно это доброе желание ваше поцеловать ваши руки, которые хотели бы снять с меня муки.
Подозеров нагнулся и с чувством поцеловал обе руки Александры Ивановны. Она сделала было движение, чтобы поцеловать его в голову, но тотчас отпрянула и выпрямилась. Пред нею стояла бледная Вера и положила обе свои руки на голову Подозерова, крепко прижала его лицо к коленам мачехи и вдруг тихо перекрестила, закрыла ладонью глаза и засмеялась.
Александра Ивановна нежно прижала падчерицу к плечу и жарко поцеловала ее в обе щеки. Она была немножко смущена этою шалостью Веры, и яркий румянец играл на ее свежих щеках. Подозеров в первый раз видел ее такою оживленною и молодою, какой она была теперь, словно в свои восемнадцать лет.
— Так как же? — спросила она, не глядя на него, расправляя кудри Веры. — Так вы побеждены?
— Да, я немножко разбит.
— Вы согласны, что вы действовали до сих пор непрактично?
— Согласен; но иначе действовать не буду.
— Так вы наказаны за это: вы непременно женитесь на Ларе.
— Я!
— Да; вы обвенчаетесь с Ларисой.
— Помилуйте! какими же судьбами?
— Женскими! Вы будете ее мужем по ее желанию, если только вы этого хотите.
Подозеров промолчал.
— Держите же себя, как я говорила, и я вас поздравлю с самою хорошенькою женой.
С этим Александра Ивановна встала, оправила платье и воскликнула:
— А вот и Катя идет сюда! Послушай, бранчивое созданье, — отнеслась она к подходившей Форовой. — Я беру Андрея Иваныча в наш заговор против Ларисы. Ты разрешаешь?
— Разумеется.
— Но я беру с условием, чтоб он спрятал на время свои чувства в карман.
— Ну да, ну да! — утвердила Форова. — Ни слова ей... А я пришла вам сказать, что мне из окна показалось, будто рубежом едут два тюльбюри: это, конечно, Бодростина с компанией и наша Лариса Платоновна с ними.
— Не может быть!
Но в это время послышался треск колес, и два легких экипажа промелькнули за канавой и частоколом.
— Они! — воскликнула Форова.
— Какова наглость! — тихо, закусив губу, проронила Синтянина и сейчас же добавила:— а впрочем, это прекрасно, — и пошла навстречу гостям.
Форова тотчас же быстро повернулась к Подозерову и, взяв его за обе руки, торопливо проговорила:
— А ты, Андрей Иванович, на меня, сделай милость, не сердись.
— Нет, я не сержусь, — отвечал, не глядя на нее, Подозеров.
— Скажи мне: дом Ларисин уже заложен?
— И деньги даже взяты нынче.
— Ах, Боже мой! И кто же их получил?
— Конечно, брат владелицы.
— Разбойник!
— Уж это как хотите!
— На что же, на что все это сделано? зачем заложен дом?
— Да, думаю, что просто Иосафу деньги нужны.
— На что ж, голубчик, нужны?
— Ну, я в эти соображения не входил.
— Не входил! Гм! очень глупо делал. А сколько выдано?
— Немного менее пяти тысяч.
— Господи! и если дом за это пропадет? Ведь это последнее, Андрюша, последнее, что у нее есть.
— Что же делать? Да что вы все о деньгах: оставьте это. Уж не поправишь ничего. Это все ужасно опротивело.
— Ах, опротивело! Не рада, кажется, и жизни, все это видя.
— Ну так скажите мне о чем-нибудь другом.
— О чем?
— О чем хотите, — хоть об Александре Ивановне.
— О Саше? да что о ней... Она святая! — отвечала, махнув рукой, Форова.
— Как она могла выйти так странно замуж?
— Мой милый друг, не надобно про это говорить, — это большая тайна...
— Однако вы ее знаете?
— Догадываюсь, но не знаю.
— Она несчастлива?
— Была несчастлива превыше всяких слов... А вон и гости жалуют. Пойду навстречу. Прошу же тебя, пожалуйста, веселое лицо и чтобы не очень с нею... Не стоит она ничьей жалости!..
Подозеров не тронулся с места и, стоя у дерева со сложенными руками, думал: «Какое ненавистное, тупое состояние! Я ничего, ровно ничего не чувствую, хотя не хотел бы быть в таком состоянии за десять часов до смерти. Между тем в этой глупости чувствую в себе... какой-то перелом... словом, какое-то иго отпадает пред готовой могилой... Какая разница в ощущениях, вносимых в душу этими двумя женщинами? Какой сладкий покой льет в душу ее трезвое, от сердца сказанное слово. Да! я рад, что я приехал к ней проститься пред смертью, потому... что иначе... не знаю, о ком бы вздохнул я завтра, умирая».
Глава третья. Положение дел, объясняющее, почему Подозеров заговорил о близкой смерти.
Крепкая броня Горданова оказалась недостаточно прочною: ее пробила красота Ларисы. Эта девушка, с ее чарующею и характерною красотой, обещавшею чрезвычайно много и, может быть, не властною дать ничего, понравилась Горданову до того, что он не мог скрыть этого от зорких глаз и тонкого женского чутья. Бодростина видела это яснее всех; она видела, как действует на Горданова красота Лары. Это было немножко больше того, чем хотела Глафира Васильевна. Читатели благоволят вспомнить, что Бодростина не только разрешила Горданову волочиться за Ларисой, но что это входило в данную ему программу, даже более — ему прямо вменялось в обязанность соблазнить эту девушку, или Синтянину, или, еще лучше, обеих вместе. Последнее, впрочем, было сказано Бодростиной, вероятно, лишь для красоты слога, потому что она сама не верила ни в какие силы соблазна по отношению к молодой генеральше. О каком-нибудь не только серьезном успехе, но о самом легоньком волокитстве за Синтяниной не могло быть и речи. Горданов видел это и решил в первый же день приезда, в доме Висленевых, тогда же сказав себе: «ну, об этой нечего и думать!»
Иосафа он шутя подтравливал, говоря: прозевал любчик, просвистал жену редкую, уж эта бы рогов не прилепила.
— А Бог еще знает, — отвечал Висленев.
— Не велика штука это знать, когда это всякому видно, у кого чердак не совсем пуст.
— Она, однако, бойкая...
— Ну, это, милый, ничего не значит, бойкие-то у нас часто бывают крепче тихонь. А только, впрочем, она тебе бы не годилась, она тебя непременно в руках бы держала, и даже по оброку бы не пустила, а заставила бы тебя вместо революций-то юбки кроить.
— Ну, ты наскажешь: уж и юбки кроить.
— Да, а что же ты думаешь, да, ей-Богу, заставит. Но я, знаешь, все-таки теперь на твоем месте маленечко бы пошатался: как она отзовется? Право, с этого Гибралтара хоть один камушек оторвать, и то, черт возьми, лестно.
— Нимало мне это не лестно, — отвечал Висленев.
— Ну, как же, — рассказывай ты: «нимало». Врешь, друг мой, лестно и очень лестно, а ты трусишь на Гибралтары-то ходить, тебе бы что полегче, вот в чем дело! Приступить к ней не умеешь и боишься, а не то что нимало не лестно. Вот она на бале-то скоро будет у губернатора: ты у нее хоть цветочек, хоть бантик, хоть какой-нибудь трофейчик выпроси, да покажи мне, и я тогда поверю, что ты не трус, и даже скажу, что ты мальчик не без опасности для нежного пола.
— И что же: ты думаешь, не выпрошу?
— Ну, да выпроси!
— И выпрошу!
Взявшись за это дело, Висленев сильно был им озабочен: он не хотел ударить себя лицом в грязь, а между тем, по мере того как день губернаторского бала приближался, Иосафа Платоновича все более и более покидала решимость.
— Черт знает, что она ответит? — думал. — А ну, как расхохочется?.. Вишь она стала какая находчивая и острая! Да и не вижу я ее почти совсем, а если говорить когда приходится, так все о пустяках... Точно чужие совсем...
А бал все приближался и наконец наступил. Вот освещенный зал, толпа гостей, и генеральша входит под руку с мужем. Ее платье убрано букетами из васильков.
— Василек, — шепчет Горданов на ухо Висленеву, — и за мной пара шампанского.
— Непременно, — отвечает Висленев и, выпросив у Александры Ивановны третью кадриль, тихонько, робко и неловко спустил руку к юбке ее платья и начал отщипывать цветок. Александра Ивановна, слава Богу, не слышит, она даже подозвала к себе мужа и шепчет ему что-то на ухо. Тот уходит. Но проклятая проволока искусственного цветка крепка неимоверно. Висленев уже без церемонии теребит его наудалую, но нет... Между тем генерал возвращается к жене, и скоро надо опять начинать фигуру, а цветок все не поддается.
— Позвольте я вам помогу, — говорит ему в эту роковую минуту Александра Ивановна и, взяв из рук мужа тайком принесенные им ножницы, отрезала с боку своей юбки большой букет и ловко приколола его к фраку смущенного Висленева, меж тем как генерал под самый нос ему говорил:
— Не забудь этого, мой свет!
Висленев не знал, как он дотанцевал кадриль с мотавшимся у него на груди букетом, и даже не поехал домой, а ночевал у Горданова, который напоил его, по обещанию, шампанским и, помирая со смеху, говорил:
— А все-таки ты молодец! Сказал: «выпрошу» и выпросил.
Это несчастье Висленева чуть с ума не свело, но уже зато с тех пор о победах над Александрой Ивановной они даже и в шутку не шутили, а Висленев никогда не произносил ее имени, а называл свою прежнюю любовь просто: «эта проклятая баба».
Лариса же была иная статья: ее неровный, неясный и неопределившийся характер, ее недовольство всем и верно определенная Форовым детская порывчивость то в пустынники, то в гусары, давали Бодростиной основание допускать, что ловкий, умный, расчетливый и бессердечный Горданов мог тут недаром поработать. Притом же Бодростина, если не знала сердца Ларисы больше, чем знаем мы до сего времени, то отлично знала ее голову и характер, и называла ее «пустышкой». Но тут опять была задача: по малосодержательности Ларисы, защищенной от наблюдателей ее многоговорящею красотой, Бодростина сама не знала, какой бы план можно было порекомендовать Горданову для обхождения с нею с большим успехом. Одному плану мешала гордость Ларисы, другому — ее непредвидимые капризы, третьему — ее иногда быстрая сообразительность и непреклонность ее решений. Но Бодростина надеялась, что Горданов сам найдет дорогу к сердцу Ларисы, и вдруг ей показалось, что она ошиблась: Горданов стал и стоял упорно на одном месте. Красота Лары ошеломила его; хмель обаяния туманил его голову, но не лишил ее силы над страстью. Он подходил расчетливо, всматривался, соображал и только нервно содрогался при виде Ларисы. Бодростиной даже мелькнуло в уме: не зашло бы дело до свадьбы! Ларису оберегали две женщины: Синтянина и Форова, из которых каждую обмануть трудно. Но Горданов не мог жениться; Бодростина знала, что ему был один путь к спасению: устроить ее обеспеченное вдовство и жениться на ней. Горданов и сам действительно так думал и держал этот план на первом месте, но это была его ошибка: Бодростина и в помышлении не имела быть когда-нибудь его женой. Она хотела отблагодарить его, когда будет свободна, и потом распорядиться своею дальнейшею судьбой, не стесняясь никакими обязанностями в прошлом. Бодростина отдыхала на другой сладкой мечте, которая неведомо когда и как вперилась в ее голову: она хотела быть женой человека, по-видимому, самого ей неподходящего. Она мечтала о муже, вполне добром и честном: она мечтала, как бы ей было приятно осчастливить такого человека, скрыв и забыв прошлое. В натуре Глафиры Васильевны была своего рода честность, она была бы честна и даже великодушна, если бы видела себя самовластною царицей; но она интриговала бы и боролась, и честно и бесчестно, со всеми, если бы царственная власть ее не была полною и независимою в ее руках. «Страстям поработив души своей достоинства», она была бессильна, когда страсть диктовала ей бесчестные мысли, но она не любила зла для зла: она только не пренебрегала им как орудием, и не могла остановиться. Прошлое ее ей самой представлялось чрезмерною, непростительною глупостью, из которой она выделяла только свое замужество. Тут она немножко одобряла свои действия, но все затем происходившее опять, в собственных ее глазах, было рядом ошибок, жертвой страстям и увлечениям. Продолжительное пассивное выжидание последних лет было, положим, сообразно положению дел, но оно было не в характере Глафиры, живом и предприимчивом, и притом оно до сих пор ни к чему не привело и даже грозило ей бедой: Михаил Андреевич Бодростин более не верил ей, и новым его распоряжением она лишалась мужниного имения в полном его составе, а наследовала одну только свою законную вдовью часть. Этого Глафира Васильевна не могла перенести. Она опять призвала весь свой ум и решилась ниспровергнуть такое посягательство на ее благосостояние. С этою целию, как мы помним, был вызван из Петербурга Горданов, дела которого тоже в это время находились в положении отчаянном. Глафира Васильевна знала, что Павел Николаевич человек коварный и трус, но трус, который так дальновидно расчетлив, что обдумает все и пойдет на все, а ее план был столько же прост, сколько отчаян. Он заключался в том, чтобы уничтожить новое завещание, лишавшее ее полного наследования имений мужа, и затем не дать Бодростину времени оставить иного завещания, кроме того, которым он в первую минуту старческого увлечения, за обладание свежею красотой ловкой Глафиры, отдал ей все. Горданов был человек, которому не нужно было много рассказывать, что ему нужно делать. У Глафиры тоже вся партитура была расписана; обстоятельства им помогали. Мы видели, как Михаил Андреевич Бодростин взял и увез к себе с поля смоченного дождем Висленева. Глафире Васильевне не стоило никакого труда завертеть эту верченую голову; она без труда забрала в свои руки его волю, в чужих руках побывалую. Она обласкала Жозефа, сделалась жаркою его сторонницей, говорила с ним же самим о его честности, которая будто бы устояла против всех искушений и будто бы не шла ни на какие компромиссы. Красивая и хотя уже не очень молодая, но победоносная женщина эта говорила с Висленевым таким сладким языком, от которого этот бедняк, тершийся в петербургском вертепе сорока разбойников, давно отвык и словно обрел потерянный рай. Висленев ожил. Бодростин его тоже ласкал. В их доме Иосаф Платонович приютился, как в тихой каютке во время всеобщего шторма, а шторм, большой шторм заходил вокруг. Едва Висленев стал, по легкомысленности своей, забывать о своем оброчном положении и о других своих петербургских обязательствах, как его ударила новая волна: гордановский портфель, который Висленев не мог представить своему другу иначе как с известным нам надрезом. Это была очень тяжкая минута в жизни Иосафа Платоновича, минута, которую он тщетно старался облегчить всяким лебезеньем и вызовом пополнить все, если хоть капля из ценностей, хранящихся в портфеле, пропала.
Горданов только засмеялся и, отбросив в сторону портфель, сказал Висленеву:
— Молодец мальчик, и вперед так старайся.
— Что же, ты думаешь, может быть, что это я?..
— Ничего я не думаю, — сухо отвечал Горданов, отходя и запирая портфель в комод.
— Нет, если ты что подозреваешь, так ты лучше скажи. Ведь я тебе говорил, я говорил тебе...
— Что такое ты мне говорил? Я всего говоренного тобою в памятную книжку не записываю.
— Я говорил тебе в ту ночь или в тот вечер: возьми, Паша, от меня свой портфель! А ты не взял. Зачем ты его не взял? Я ведь был тогда с дороги, уставши, как и ты, и потом...
— Продолжайте, Иосаф Платонович.
— Потом я не знаю образа жизни сестры.
Горданов обернулся, посмотрел на него пристальным взглядом.
— Черт его знает, кто это мог сделать? — продолжал, оправдываясь, Висленев. — Мне кажется, я утром видел платье в саду... Не сестрино, а чье-то другое, зеленое платье. Портфель лежал на столе у самого окна, и я производил дознание...
— Ну, так и поди же ты к черту со своим дознанием! Ты готов сказать, что твоей сестре кто-нибудь делает ночные визиты.
— Неправда, я этого не скажу.
— Неправда?.. Полно, друг, я тебя знаю и, отдавая тебе портфель, хотел нарочно еще раз поиспытать тебя: можно ли на тебя хоть в чем-нибудь положиться?
— И что же — ни в чем?
— Решительно ни в чем.
— Ну после этого, Павел Николаевич...
— Нам с вами остается раскланяться?
— Да, предварительно рассчитавшись, разумеется. Не беспокойся, я мои долги всегда помню и плачу. Я во время моих нужд забрал у тебя до девятисот рублей.
— Не помню, не считал.
— Что ж, ты разве думаешь, что больше?
— Я говорю тебе: не помню, не считал.
— Ну так я тебя уверяю, что всего девятьсот, у меня каждый грош записан, и вот тебе расписка.
Висленев схватил перо, оторвал полулист бумаги и написал расписку в тысячу восемьсот рублей.
— Это зачем же вдвое? — спросил Горданов, когда тот преподнес ему листок.
— Да так уж и бери, пожалуйста, я не знаю, когда я тебе отдам...
— Полно, милый друг! Где тебе отдавать?
— Павел Николаевич, не говори этого! Я бесчестного дела сделать не хочу, я пишу вдвое, потому что... так писал, так и привык; но я отдам тебе все, что перехватил.
— Перехватил! — засмеялся Горданов.
— Да, перехватил и еще перехвачу и разочтусь.
— Нет, уж негде тебе, брат, перехватывать, все перехваты пересохли.
— Негде! Ошибаешься, я у сестры перехвачу и вывернусь.
Горданов снова засмеялся и проговорил:
— Ты бы себе и фамилию у кого-нибудь перехватил. Тебе так бы и зваться не Висленев, а Перехватаев.
— А вот увидишь ты: перехвачу.
— Перехвати, с моей стороны препятствий не будет, а уж сам я тебе не дам более ни одного гроша, — и Горданов взял шляпу и собирался выйти. — Ну выходи, любезный друг, — сказал он Висленеву, — а то тебя рискованно оставить.
— Паша!
Горданов засмеялся.
— Тебе не грех меня так обижать?
— Да пропади ты совсем с грехами и со спасеньем: мне некогда. Идем. Сестра твоя дома?
— Да, кажется, дома.
— Надеюсь, она про эту гадость не знает?
— Не знает, не знает!
— Очень рад за нее.
— Она тебе нравится?
— Да, она не тебе чета. Сестра красавица, а брат...
— Ну врешь; я недурен.
— Недурен, да тип у тебя совсем не тот; ты совсем японец.
— А ведь, брат, любили нас, и очень любили!
— Да, я сам тебя люблю: где же еще такого шута найдешь.
— И ты на меня не сердишься?
— Нимало, нимало. Чего на тебя сердиться: ты невменяем.
— Ну и мир.
— Мир, — отвечал Горданов, лениво подавая ему руку и в то же время отдавая пустые распоряжения остающемуся слуге.
Висленев был как нельзя более доволен таким исходом дела и тотчас же направился к Бодростиным, с решимостью приютиться у них еще плотнее; но он хотел превзойти себя в благородстве и усиливался славить Горданова и в струнах, и в органе, и в гласех, и в восклицаниях. Застав Глафиру Васильевну за ее утренним кофе, он сейчас же начал осуществлять свои намерения и заговорил о Горданове, хваля его ум, находчивость, таланты и даже честность. Бодростина насупила брови и возразила. Висленев спорил жарко и фразисто. В это время в будуар жены вошел Михаил Андреевич Бодростин. Разговор было на минуту прервался, но Висленев постарался возобновить его и отнесся к старику с вопросом о его мнении.
— Я об этом человеке имел множество различных мнений, — отвечал Бодростин, играя своею золотою табакеркой, — теперь не хочу высказать о нем никакого мнения.
— Но вот Глафира Васильевна отрицает в нем честность. Можно ли так жестоко?
— Что же, может быть, она о нем что-нибудь больше нас с вами знает, — сказал Бодростин.
Глафира Васильевна не шевельнула волоском и продолжала сосать своими полными коралловыми губами смоченный сливками кусочек сахара, который держала между двумя пальцами по локоть обнаженной руки.
— А я говорю то, — продолжал Михаил Андреевич, — что я только не желал бы дожить до того времени, когда женщины будут судьями.
— Вы до этого и не доживете, — весело отвечала своим густым контральто Глафира.
— Право! У женщины какой суд? сделал раз человек что-нибудь нехорошее, и уже это ему никогда не позабудут, или опять, согреши раз праведник, — не помянутся все его правды.
— Горданов и праведники... это оригинально! — воскликнула Глафира Васильевна и, расхохотавшись, вышла в другую комнату.
— А я столкнулся сейчас с Гордановым у губернатора, — продолжал Бодростин, не обращая внимания на выход жены, — и знаете, я не люблю руководиться чужими мнениями, я и сам Горданова бранил и бранил жестоко, но как вы хотите, у этого человека еще очень много сердца.
— И ума, он очень умен, — поддержал Висленев.
— Об уме уж ни слова: как он, каналья, третирует наших дворян и особенно нашего вице-губернаторишку, это просто слушаешь и не наслушаешься. Заговорил он нам о своих намерениях насчет ремесленной школы, которую хочет устроить в своем именьишке. Дельная мысль! Знаете, это человек-с, который не химеры да направления показывает...
— Да; он очень умен!
— Кроме того, говорю и о сердце. Мы с ним ведь старые знакомые и между нами были кое-какие счетцы. Что же вы думаете? Ведь он в глаза мне не мог взглянуть! А когда губернатор рекомендовал ему обратиться ко мне, как предводителю, и рассказать затруднения, которые он встретил в столкновениях с Подозеровым, так он-с не знал, как со мной заговорить!
— И вы его великодушно ободрили? — спросила снова вошедшая Глафира Васильевна.
— Да, представьте, ободрил, — продолжал Бодростин. — Подозеров честный, честный человек, но он в самом деле какой-то маньяк. Я его всегда уважал, но я ему всегда твердил: перестаньте вы, Бога ради, настраиваться этими газетными подуськиваниями. Что за болезненная мысль такая, что все крестьян обижают. Вздор! А между тем, задавшись такими мыслями, в самом деле станешь видеть неведомо что, и вот оно так и вышло. Горданов хлопочет о школе для самих же крестьян, а тот противодействует. Потом агитатор этот ваш Форов является и с ним поп Евангел, и возмущают крестьян... Ведь это-с... ведь это же нетерпимо! Я сейчас заехал к Подозерову и говорю: мой милый друг, vous etes entierement hors du chemin [Вы совершенно не на том пути (фр.)], и что же-с? — кончилось тем, что мы с ним совсем разошлись.
— Вы разошлись с Подозеровым? — воскликнул, не скрывая своей радости, Висленев.
— Даже жалею, что я с ним когда-нибудь сходился. Этот человек спокоен и скромен только по внешности; бросьте искру, он и дымит и пламенеет: готов на укоризны целому обществу, зачем принимают того, зачем не так ласкают другого. Позвольте же наконец, милостивый государь, всякому самому про себя знать, кого ему как принимать в своем доме! Все люди грешны, и я сам грешен, так и меня не будут принимать. Да это надо инквизицию после этого установить! Общество должно исправлять людей, а не отлучать их.
— О, вы совершенно правы, — поддержал Висленев, натягивая на руку перчатку.
— По крайней мере я никого не отлучаю от общения с людьми и знаю, что человек не вечно коснеет в своих пороках, и для каждого настает своя минута исправиться.
— Михаил Андреевич, вы божественно говорите! — воскликнул Висленев и начал прощаться. Его немножко удерживали, но он сказал, что ему необходимо нужно, и улетел домой, застал там Горданова с сестрой, которая была как-то смешана, и тут же рассказал новости об обращении Бодростина на сторону Павла Николаевича.
Меж тем Глафира Васильевна тотчас же, по выходе Висленева, спросила мужа:
— И неужто это дойдет до того, что Горданов снова будет принят у нас в доме?
— Да; я полагаю, — отвечал Бодростин. — Он имеет во мне нужду, да и сам интересует меня своею предприимчивостью. Разве ты не хочешь, чтоб он был принят?
— Мне все равно.
— О чем же и говорить! Мне тоже все равно, — произнес он и, взяв Глафиру за обнаженный локоть, добавил:— я совершенно обеспечен: за моею женой столько ухаживателей, что они друг за другом смотрят лучше всяких аргусов.
— Что же вы этим хотите сказать? — спросила Глафира, но Бодростин вместо ответа поцеловал несколько раз кряду ее руку и проговорил:
— Какая у вас сегодня свежая и ароматная кожа. А впрочем, черт возьми! — добавил он, взглянув на часы, — j'ai plusieurs visites a faire! [Мне нужно сделать несколько визитов! (фр.)]
С этим он повернулся и вышел, часто скрипя своими сияющими сапожками.
«Ароматная кожа!» — подумала Глафира, прислонясь устами к своей собственной руке. И пред ней вдруг пронеслась вся ее прошлая жизнь. В детстве ее любили и рядили; в юности выставляли как куколку; Горданов нуждался в ее красоте; ею хотели орудовать, как красавицей! Вышла замуж она через красоту; по своей вине пренебрежена как человек, но еще и теперь ценима в меру своей красоты. И между тем никто никогда не остановился на душе ее, никто не полюбил ее за ее сердце, не сказал ей, что он ей вверяется, что он ей верит и хочет слиться с нею не в одном узком объеме чувственной любви!
Бодростина насупилась, и в больших глазах ее сверкнули досада и презрение.
— Неужто же так будет вечно? Нет, еще одно последнее сказанье, и я начну новую летопись. Я хочу и я буду любима!
Между тем Горданов в ожидании дела с Бодростиной сделал для себя очень важные открытия в Ларисе. Он изучил и понял ее основательно, и результаты его изучения были яснее результатов долгих размышлений о ней Форовой, Синтяниной и Бодростиной. У Горданова Лариса выходила ни умна, ни глупа, но это была, по его точному выводу, прекрасная «собака и ее тень». Вся суть ее характера заключалась в том, что все то, что ей принадлежит, ей не нужно. Горданов так решил и не ошибся. Теперь надо было действовать сообразно этому определению. Он ходил к Ларисе в дом, но, по-видимому, вовсе не для нее; он говорил с нею мало, небрежно и неохотно. Он видел ее разрыв с Подозеровым, пред которым Горданов постоянно обнаруживал к Ларисе полнейшее невнимание, и не уставал хвалить достоинства Андрея Ивановича. Это действовало прекрасно; Лариса едва преодолевала зевоту при имени Подозерова.
Городская сплетня между тем утверждала, что Лариса не идет за Подозерова, что ему не везет, что он в отставке, а занята она Гордановым, но ей тоже не везет, потому что Горданов не удостоивает ее внимания, а занят, кажется, красивою купчихой Волдевановой, в доме которой Горданов действительно бывал недаром, и не скрывал этого, умышленно пренебрегая общественным мнением. Горданову, с его понятиями о Ларисе, нужно было совсем не то, что думала Бодростина; он не бил на то, чтобы поиграть Ларисой и бросить ее. Он, правда, смотрел на нее, как на прекрасный и нужный ему комфорт, но вместе с тем хотел, чтоб эта прекрасная, красивая девушка принадлежала ему на самом нерушимом крепостном праве, против которого она никогда не смела бы и подумать возмутиться. Но что же могло ему дать такое право? Брак; но брак не сдержит таких, как Лариса; да и к тому же он не мог жениться на Ларисе: у него на плечах было большое дело с Бодростиной, которую надо было сделать богатою вдовой и жениться на ней, чтобы самому быть богатым; но Ларису надо было закрепить за собой, потому что она очень ему нравится и нужна для полного комфорта.
— С точки зрения дураков — это вздор, но с моей точки это не вздор, — размышлял Горданов, — женщина, которая мне нравится, должна быть моею, потому что без этого мне не будет хорошо. Но мне нужна и одна, и другая, я гонюсь за двумя зайцами и, по глупой пословице, я должен не поймать ни одного. Но это вздор!
И у Павла Николаевича созрел план, по которому он смело надеялся закрепить за собою Ларису еще крепче, чем Глафиру Васильевну, и был вполне уверен, что ни Бодростина и никто на свете этого плана не проникнут.
Таким образом у него предприятие нагромождалось на предприятие, и дух его кипел и волновался. Надо было помирить петербургские долги; упрочить здесь за собою репутацию человека, крайне интересного и страшного; добыть большие деньги, сживя со света Бодростина и женившись на его вдове, и закабалить себе Ларису так, чтобы она была ему до гроба крепка, крепче всяких законных уз. Всего этого он надеялся достигнуть без риска и опасностей. На долги он выслал проценты и был уверен, что Кишенский и его расчетливая подруга не станут на него налегать ввиду заяснившейся для него возможности поправиться и расплатиться; губернское общество он уже успел собою заинтересовать без малейшего труда и даже сам нередко дивовался своему успеху. Еще недавно ненавидевший его втайне Ропшин позвал его на именинный вечер, где был весь сок губернской молодежи, и Горданов, войдя, едва кивнул всем головой, и тотчас же, отведя на два шага в сторону хозяина, сказал ему почти вслух: «Однако же какая сволочь у вас, мой милый Ропшин». Хозяин сконфузился, гости присмирели; потом выходка эта с хохотом была разнесена по городу. Добыть большие деньги Горданов давно знал каким образом: дело это стояло за сорока тысячами, которые нужны были для расчета с долгами и начала миллионной операции; надо было только освободить от мужа Бодростину и жениться на ней, но из этих двух дел последнее несомненно устраивалось само собою, как только устроилось бы первое. Горданов в этом был уверен, Бодростина говорила правду, что у него была своя каторжная совесть: у него даже был свой каторжный point d'honneur, не дозволявший ему сомневаться в существовании такой совести в Глафире Васильевне, женщине умной, которую он, как ему казалось, знал в совершенстве. Затем оставалось прикрепить к себе Ларису. Это дело было нелегкое: жениться на Ларисе, повторим еще раз, Горданов не думал, а любовницей его она не могла быть по своему гордому характеру. Он очень просто и ясно предвидел с ее стороны такую логику: если он меня любит — пусть на мне женится, если же не хочет жениться, значит не любит. Притом же около Ларисы стояли Синтянины, Форова, Подозеров, все эти люди не могли благоприятствовать планам Горданова. Еще он мог, может быть, увлечь Ларису, но рисковал не удержать ее надолго в своей власти. Могла настать минута разочарования, а Горданов был дальнозорок; он хотел, чтобы Лариса была неотдалима от него нигде, ни при каких обстоятельствах, не исключая даже тех, при которых закон освобождает жену от следования за мужем. Но понятно, что все эти сложные планы требовали времени, и Горданов, сделавшись снова вхож в дом Бодростиных, в удобную минуту сказал
Глафире, что он не истратил одной минуты даром, но что при всем этом ему еще нужно много времени.
— Не торопи меня, — говорил он ей, — дай мне год времени, год — не век, и я тебе за то ручаюсь, что к концу этого года ты будешь и свободна, и богата.
— Но завещание написано!
— Оставь ты эти письмена.
Глафира Васильевна сама знала, что нужно время, нужно оно было не для нее, а для Павла Николаевича, который хотел действовать осторожно и, раздув огонь, собрать жар чужими руками. На это и был здесь Висленев.
В таком положении находились дела, когда Михаил Андреевич Бодростин, рассорясь с Подозеровым, ввел к себе снова в дом Горданова и, пленясь его умом, его предприимчивостью и сообразительностью, вдруг задумал ехать в Москву и оттуда в Петербург, чтоб уладить кое-что по земству и вступить в большие компанейские торговые дела, к которым его тянуло и которых так опасалась Глафира Васильевна. При этом кстати Бодростин вез в Москву и духовное завещание, с тем чтобы положить его на хранение в опекунский совет. Бодростину сопутствовали в его поездке: его наследник племянник, улан Владимир Кюлевейн и секретарь Ропшин. День отъезда был назначен. Молодой, рослый камердинер Михаила Андреевича и два лакея укладывали чемоданы и несессеры. Ропшин вместе с самим Бодростиным собирал в кабинете дорожный портфель. Дело было после обеда пред вечерним чаем: осталось провести дома последний прощальный вечер и завтра ехать.
— Подай мне завещание! — спросил, сидя за столом, Бодростин у стоявшего с другой стороны стола Ропшина.
Секретарь порылся и поднес лист, исписанный красивым французским почерком Михаила Андреевича.
Бодростин пробежал несколько строк этого документа, взглянул на свидетельские подписи Подозерова и Ропшина и сказал:
— Не худо бы сюда еще одну подпись священника.
— Как вам угодно, — отвечал Ропшин.
— Но, впрочем, кажется, довольно по закону и двух.
— Совершенно довольно и, вдобавок, завещание писано вашею собственною рукой и, вероятно, самим вами будет подано на хранение?
— А разумеется, самим.
— В таком случае оно более чем гарантировано от всяких оспориваний.
— Ты прав, нечего тут вмешивать попов: еще все разблаговестят. Ты ведь, конечно, никому ни звука не подал.
— Можете ли вы в этом сомневаться, — отвечал, краснея, Ропшин.
— Я, брат, всем верю и во всех сомневаюсь.
— Я не знаю, как господин Подозеров, — начал было Ропшин, но Бодростин перебил его:
— Ну в Подозерове-то я не сомневаюсь.
Ропшин еще покраснел, так что багрец пробил сквозь его жиденькие, тщательно причесанные чухонские бакенбарды, но Бодростин, укладывавший в это время бумагу в конверт, не заметил его краски.
— Надпиши, — сказал он секретарю, и, продиктовав ему надпись, велел запечатать конверт гербовою печатью и уложить в портфель.
Позже вечером Бодростина не было дома: он был у губернатора, потом у Горданова и вернулся за полночь. Глафира Васильевна без него в сумерки приняла только Висленева, но рано сказалась больною и рано ушла к себе на половину. Дела ее с Висленевым шли вяло. Иосаф Платонович сделался ее адъютантом, но только разводил ей рацеи о женщине, о женских правах и т. п. Горданов, наблюдавший все это, находил, что вокруг удалой Бодростиной как будто становилось старо и вяло, но вряд ли он в этом не ошибался. По крайней мере, если бы Горданов видел Глафиру Васильевну в сумерки того дня, когда Бодростин запечатал свое завещание, он не сказал бы, что около нее стало старо. Она была вся оживлена: черные брови ее то поднимались, то опускались, взор то щурился и угасал, то быстро сверкал и пронизывал; античные ее руки горели и щипали в лепестки мягкую шемахинскую кисть от пояса распашного капота из букетной материи азиатского рисунка. В организме ее было какое-то лихорадочное беспокойство, и потому, несмотря на едва заметную свежесть летнего вечера, в кабинете ее были опущены густые суконные занавесы, и в камине пылали беловатым огнем сухие березовые дрова.
Глафира Васильевна помещалась полусидя на низком мягком табурете и упиралась в белый мраморный откос камина ногой, обутой в простую, но изящную туфлю из алого сафьяна.
Он ей был не лишний: она в самом деле зябла, но вдруг чуть только всколыхнулась дверная портьера и вошедшая девушка произнесла: «Генрих Иваныч», Бодростина сейчас же вскочила, велела просить того, о ком было доложено, и пошла по комнате, высоко подняв голову, со взглядом ободряющей и смущающей ласки.
В портьере показался секретарь Ропшин: бедный и бледный, нескверный и неблазный молодой человек, предки которого, происходя от ревельских чухон, напрашивались в немецкие бароны, но ко дню рождения этого Генриха не приготовили ему ничего, кроме имени Ропшкюль, которое он сам переменил на Ропшин, чтобы не походить на чухонца. Он был воспитан пристойно и с удовольствием нес свои секретарские обязанности при Бодростине, который его отыскал где-то в петербургской завали, и в угоду одной из сердобольных дам, не знавших, куда пристроить этого белобрысого юношу, взял его к себе в секретари.
Очутившись в этом старом, богатом и барском доме, Ропшин немедленно впал в силки, которые стояли здесь по всем углам и закоулкам. У Глафиры Васильевны была своя партия и свои агенты повсюду: в конторе, в оранжереях, в поварских, на застольной и в прачечной. Глафира Васильевна не пренебрегала ни сплетней, ни доносом. Ропшин, в качестве лица, поставленного одним рангом выше камердинера и дворецкого, тоже был взят на барынину сторону, и он сам вначале едва знал, как это случилось, но потом... потом, когда он увидал себя на ее стороне, он проникся благоговейным восторгом к Глафире Васильевне: он начал тупить взоры при встрече с нею, краснеть, конфузиться и худеть. Глафира Васильевна не пренебрегала и этим: мальчик мог быть полезен, и ему был брошен крючок. Год тому назад этот двадцатидвухлетний молодой человек впервые взошел в кабинет Глафиры для передачи какого-то незначащего поручения ее мужа. В кабинете на ту пору сидели Лариса Васильевна и генеральша Синтянина. Юноша пришел в смущение при виде трех красивых женщин: он замялся, стал говорить, ничего не выговорил, поперхнулся, чихнул, и его маленький галстучек papillon [Бабочка (фр.)] сорвался с пуговки и улетел в неведомые страны. У Ропшина задрожали колена и навернулись слезы. Синтяниной и Ларисе стало и смешно и жалко, но Глафире Васильевне это дало повод бросить крючок. Она, секунду не думая, оторвала один из бантиков своего капота и, подавая его Ропшину, сказала: «прекрасно! с этих пор вы за это будете мой цвет!»
Юноша поцеловал ее руку и вылетел бомбой, зацепившись за несколько стульев...
По прошествии десяти месяцев Ропшин доставил Глафире Васильевне копию с завещания Бодростина, вверенного его скромности, и был награжден за это прикосновением белого пальца Глафиры Васильевны к его подбородку.
Теперь он предстал к ней с другим докладом.
Он вошел, поклонился и застенчиво пролепетал банальную французскую приветственную фразу. Она окинула его бровью, ласково улыбнулась и, взяв его за руку, подвела к стулу.
— Садитесь, Генрих, — сказала она, выпуская его руку и проходя далее по ковру своею развалистою походкой. — Что нового у нас?
— Михаил Андреевич везет завещание в Москву.
— Да-а?
— Он запечатал его в конверт и сдал мне.
— Вам? как это мило с его стороны. Ропшин встал и хотел раскланяться.
— Куда же вы? — остановила его Бодростина.
— Я все сказал вам, — отвечал Ропшин и отозвался, что у него много дел.
— Ах, полноте, пожалуйста, с вашими делами: всех дел вовек не переделаешь. Скажите лучше мне: вы можете меня удостоверить, что эта бумага действительно приготовлена и везется в Москву?
— О, к сожалению, ничего нет легче: она со мной, в моем портфеле. Вы, может быть, желали бы ее видеть... я нарочно взял с собою.
— Да; я даже прошу вас об этом.
Ропшин вышел и, явясь через минуту, застал Глафиру Васильевну снова пред камином: ее опять, кажется, знобило, и она грелась в той же позе на той же табурете, на котором сидела до прихода Рошпина.
— Вы нездоровы? — робко спросил молодой человек, кинув на нее влюбленный, участливый взгляд.
— Немножко зябну.
— Вечер свеж, — отвечал секретарь, доставая конверт из портфеля.
— Oui, le feu est un bon compagnon ce soir [Да, огонь — хороший товарищ в этот вечер (фр.)], — уронила она, зевая. Глафира Васильевна взяла конверт, внимательно прочла надпись и заметила, что она никогда не знала, как подобные документы надписываются.
— Вот там, на столе, есть карандаш, — прошу вас, спишите мне эту надпись.
Ропшин встал и хотел взять конверт.
— Нет, вы пишите, я продиктую вам, — сказала Бодростина, и когда секретарь взял карандаш и бумагу, Глафира Васильевна прочитала ему надпись и затем бросила конверт в огонь и, встав, заслонила собою пылающий камин.
Ропшин остолбенел, но потом быстро бросился к ней, но был остановлен тихим, таинственным «т-сс», между тем как в то же самое время правая рука ее схватила его за руку, а белый мизинец левой руки во всю свою длину лег на его испуганные уста.
— Вы не употребите же против меня силы, да и это теперь было бы бесполезно, вы видите, конверт сгорел. Берите скорее точно такой другой и делайте на нем ту же надпись. Они должны быть похожи как две капли воды.
— Что же я положу в другой конверт?
— Вы положите в него... лист чистой бумаги.
— Великий Боже!
— Не ужасайтесь, бывают дела гораздо страшнее, и их люди бестрепетно делают для женщин и за женщин, — это, надеюсь, еще далеко не тот кубок, который пили юноша, царь и пастух в замке Тамары.
— Вы можете еще шутить!
— Нимало, вам не грозит никакая опасность! что бы ни случилось, вы можете отвечать, что это ошибка и только.
— Я потеряю мое место.
— Очень может быть, но о таких вещах пред женщиной не говорят.
И с этим Бодростина, не давая опомниться Ропшину, достала из его портфеля пачку конвертов и сунула в один из них загодя приготовленный, исписанный лист, — этот лист было старое завещание.
— Не стойте посреди пути: минуты дороги. Где печать? — спросила она живо.
Ропшин молча вынул из кармана гербовую печать, которою Глафира Васильевна собственною рукою запечатала конверт, и сказала: «надпишите!» Секретарь сел и взял перо, но рука его тряслась и изменяла ему.
— Прежде немножко успокойтесь, — вы очень взволнованы, вас надо вылечить, бедный ребенок, — и с этим она обняла его и поцеловала.
Ропшин закрыл рукой глаза и зашатался.
Бодростина отвела его руку и взглянула ему в глаза спокойным, ничего не говорящим взглядом.
— Comptez-vous cela pour rien? [Вы это ни во что не ставите? (фр.)] — спросила она его строго и твердо.
— О, я давно, давно люблю вас, — воскликнул Ропшин, — и я готов на все!
— Вы любите! Tant mieux pour vous et tant pis pour les autres [Тем лучше для вас и тем хуже для других (фр.)], берегите же мою тайну. Вам поцелуй дан только в задаток, но щедрый расчет впереди. — И с этим она сжала ему руку и, подав портфель, тихонько направила его к двери, в которую он и вышел.
Бодростин вернулся домой за полночь и застал своего молодого секретаря сидящим за работой в его кабинете.
— Иди спать, — сказал он Ропшину, — чего ты сидел? Я запоздал, а мы завтра утром едем.
— Мне что-то не хотелось спать, — ответил Ропшин.
— Не хочешь спать? Соскучился и тянет в Питер. Что же, погоди, брат, покутишь: но ты в каком-то восторженном состоянии! Отчего это?
— Вам это кажется, — я тот, что и всегда.
— Ты не пленен ли горничной Настей?.. А хороша! хоть бы и не тебе, ревельской кильке. Да ты, братец, не скромничай, — я сам был молод, а теперь все-таки иди спать.
И предводитель с своим секретарем разошлись. Бодростинский дом весь погрузился в спокойный сон, не исключая даже самой Глафиры, уснувшей с уверенностию, что последние шаги ее сделаны блистательно. Бодростин сам лично отдаст на хранение завещание, которым предоставлялось все ей и одной ей; это не может никому прийти в голову; этого не узнает и Горданов, а Ропшин... он не выдаст никогда того, что он знает, не выдаст потому, что он замешан в этом сам и еще более потому, что... Глафира Васильевна знала юношескую натуру.
Так уехал Бодростин, уверенный, что ему нечего беспокоиться ни за что: что даже супружеская честь его в полной безопасности, ибо у жены его так много поклонников, что они сами уберегут ее друг от друга. Ему и в голову не приходило, что он самое свежее свое бесчестие вез с самим собою, да и кто бы решился заподозрить в этом влаственную красоту Глафиры, взглянув на прилизанного Ропшина, в душе которого теперь было столько живой, трепещущей радости, столько юношеской гордости и тайной, злорадной насмешки над Висленевым, над Гордановым и над всеми смелыми и ловкими людьми, чья развязность так долго и так мучительно терзала его юное, без прав ревновавшее сердце. Теперь он, по своей юношеской неопытности, считал себя связанным с нею крепчайшими узами и удивлялся только одному, как его счастье не просвечивает наружу, и никто не видит, где скрыт высший счастливец. «Tant mieux pour vous tant pis pour les autres», — шепчут ему полные пунцовые губы, дыхания которых ему не забыть никогда, никогда! И воспоминания эти порхают роем в голове и сердце счастливца, помещающегося в вагоне железной дороги возле блаженного Бодростина, и мчатся они вдаль к северу. А в то же время Глафира Васильевна покинула свой городской дом и сокрылась в цветущих садах и темных парках села Бодростина, где ее в первый же день ее переезда не замедлили навестить Висленев с сестрой и Горданов. И в тот же день вечером, в поздние сумерки, совершенно некстати, нежданно и нескладно, появился Михаил Андреевич в коротком кирасирском мундире с распоротою спинкой, и столь же внезапно, нежданно и нескладно исчез.
Странный, пустой, но неприятный случай этот подействовал на Глафиру Васильевну очень неприятно, — она тяготилась мертвым безмолвием зал, где тревожному уху ее с пустынных хор слышалась тихая речь и таинственный шорох; ее пугал сумрак сонных кленов, кряхтящих под ветер над сонным, далеким прудком старинного парка; ее пугал даже всплеск золотистого карася на поверхности этой сонной воды. Ее состояние было созерцательное и болезненное; она опять перебирала не совесть свою, но свои поступки, и была недовольна собою. Даже недавно казавшийся ей столь необходимым вызов Горданова представлялся ей теперь в ином свете. По ее мнению, все ее прошлое было ошибка на ошибке. Ей, выйдя замуж, нужно было держать себя строго, и тогда... она, конечно, могла бы овдоветь без всякой сторонней помощи, как без помощи Горданова она овладела завещанием и даже более: подменила его другим. Надо было выдержать себя, как выдерживает Синтянина, и тогда ни на что не нужны были бы никакие помощники... Да; Горданов ей дорого стоит, и зато теперь, после истории с завещанием, цена ему сильно упала, но он все-таки еще нужен... Глафира не могла ни на кого, кроме него, положиться, но теперь она видела необходимость сделать нечто и с самою собою: надо было поправить свою репутацию, так чтобы ко времени, когда ударит роковой час, на нее не могло пасть даже и тени подозрения в искусственном устройстве вдовства. Надо было поправить свою репутацию.
— Начать молиться? — но кто же мне поверит. За что же, за что же взяться, чтобы меня забыли во мне самой?
Это ее занимало постоянно, и она, оставаясь сама с собою, не могла отрешиться от этой мысли.
Глава четвертая. Сумасшедший Бедуин.
Верстах в тридцати от села Бодростина в больших имениях одного из князей древнего русского рода жил оригинальный человек, Светозар Владенович Водопьянов. Крестьяне в окружности называли его «черным барином», а соседи помещики — Сумасшедшим Бедуином. Он происходил откуда-то из южных славян; служил когда-то без году неделю в русской артиллерии и, выйдя в отставку, управлял с очень давних пор княжескими имениями. Последнее было несколько удивительно. Водопьянов, казалось бы, не мог управлять ничем, но между тем он управлял очень обширными землями и заводами, и владетель этих больших местностей не искал случая расстаться с Светозаром Владеновичем. Напротив, всем было известно, что князь, занимавший в Петербурге важную государственную должность, дорожит безалаберным Водопьяновым и, каждый год выписывая его к себе с отчетами, удерживал его при себе долго и ласкал, и дарил его. Сановник любил Водопьянова, и в этой любви его было что-то нежное и даже почтительное. Управитель был человек честный и даже очень честный: это знали все, но главная черта характера, привязывавшая к нему людей, заключалась в непосредственности его натуры и в оригинальности его характера. Название «черный барин» очень ясно выражало внешность Водопьянова: он был велик ростом, неуклюж, массивен, темен лицом, с весьма крупными чертами лица; толстыми, черными с проседью волосами, поросшими мхом ушами и яркими, сверкающими, карими глазами. Ноги и руки его были просто ужасны по своим громадным размерам, и притом руки всегда были красны, как окунутые в свекольный рассол, а ноги до того костисты, что суставы словно были покрыты наростами, выпиравшими под кожей сапога наружу. Ко всему этому Водопьянов постоянно смазывался чем-то камфарным, носил в кармане коробку с камфарными шариками, глотал камфару, посыпал камфарой постель, курил камфарные сигаретки и вообще весь был пропитан камфарой. Это была его гигиена по Распайлю, — единственному врачу, которому он верил. Ходил он и двигался быстро, говорил голосом необыкновенно кротким и мягким и находился в постоянной задумчивости. Нрав и образ жизни Водопьянова были до крайней степени причудливы: к нему очень шли слова поэта:
Он странен, исполнен несбыточных дум,
Бывает он весел ошибкой;
Он к людям на праздник приходит угрюм,
К гробам их подходит с улыбкой.
Всеобщий кумир их ему не кумир,
Недаром безумцем зовет его мир.
Водопьянов был бесконечно добр и участлив: он был готов служить всем и каждому чем только мог, но все горести людские при этом его не поражали и не тревожили. От этого многим казалось, что он лишен чувства и поступает добро и благородно только по принципу. Сам он тоже всякую скорбь переносил, не удостоивая ее ни малейшего внимания, — не смущался ничем и не боялся ничего. Он был холост, но имел на своих руках женатого брата с детьми и замужнюю сестру с ее потомством. Все это были люди плохие, нагло севшие на шею Водопьянова и не помышлявшие сойти с нее, как он не помышлял их спугивать.
Есть или, по крайней мере, были у нас на Руси сострадательные барышни, одну из каковых автор вспоминает в эту минуту: в ее девической комнате постоянно можно было найти какую-нибудь калечку; на окне, например, сидел цыпленок с переломленною, перевязанною в лубок ногой; в шляпной коробке помещался гадостный больной котенок; под комодом прыгал на нитке упавший из гнезда желтоносый галчонок: все это подбиралось сюда откуда попало и воспитывалось здесь до поправления сил, без всякого расчета на чью бы то ни было благодарность. Дом Светозара Владеновича в своем роде был совершенно то самое, что описанная комната, с тою единственною разницей, что вместо галчат, котят и цыплят здесь обитали калеки и уродцы человеческой породы. Помимо ленивого и тупого брата и его злой жены, с их малоумным и злым потомством, и сестры с ее пьяным мужем и золотушными детьми, у Водопьянова был кучер, нигде нетерпимый пьяница, кухарка, забитая мужем, идиотка, комнатный мальчик-калека, у которого ноги стояли иксом в разные стороны: все это придавало всему дому характер какого-то нестроения. Почти то же самое было и в сельском хозяйстве, которым управлял Водопьянов, но, ко всеобщему удивлению, и дом «черного барина» не оскудевал, и полевое и фабричное хозяйство у него шло часто даже удачнее, чем у многих, самых рачительных, соседей. От этого в народе ходила молва, что «черный барин» что-то знает», — и он действительно нечто знал: он знал агрономию, химию, механику, знал силы природы в многоразличных их проявлениях, наблюдал их и даже умел немножко прозревать их тайны. Кроме того, он знал нечто такое, что, по общераспространенному мнению, даже и нельзя знать: он знал (не верил, а знал), что есть мир живых существ, не нуждающихся ни в пище, ни в питии, ни в одежде; мир, чуждый низменных страстей и всех треволнений мира земного. Водопьянов был спирит и медиум, хотя не давал никаких медиумических сеансов. Рука его не писала, но ухо что-то слышало, и это слышание было поводом ко множеству странностей, по которым образованные соседи не в шутку признавали его немножко помешанным и назвали «Сумасшедшим Бедуином». Заподозрить в Водопьянове некоторую ненормальность душевных отправлений было весьма возможно: в его поступках была бездна странностей: он часто говорил, по-видимому, совершенную нескладицу, и нередко вдруг останавливался посреди речи, прислушивался к чему-то такому, чего никто не слыхал, иногда он даже быстро кому-то отвечал и вдруг внезапно вскакивал и внезапно уходил или уезжал. Нередко он вдруг появлялся, прежде невхожий, в домах людей, очень мало ему знакомых и отдаленных: появлялся Бог знает для чего, а через короткое время снова уезжал. Словом, носился как Сумасшедший Бедуин по пустыне, почти не замечая живых людей и говоря с призраками.
Месяц спустя после отъезда Михаила Андреевича в столицу, в один августовский темный вечер, прерывистый звон поддужного колокольчика возвестил гостя обитателям села Бодростина, и лакеи, отворившие дверь парадного подъезда, встретили «черного барина».
Водопьянов пользовался за свою оригинальность и честность расположением Михаила Андреевича, но Глафира Васильевна, прежде очень интересовавшаяся этим оригиналом, вдруг разжаловала его из своих милостей. Сумасшедший Бедуин, по ее словам, тяжело действовал ей на нервы. Водопьянов бывал у Бодростиных очень редко и пред сим не показывал к ним глаз более года, но так как подобные странности были в его натуре, то внезапный приезд его не удивил Глафиру. Она, напротив, в этот раз, страдая немножко скукой, была даже рада посещению Водопьянова и, отдав приказание слуге просить приезжего в гостиную, живо обратилась к находившимся у нее гостям: Ларисе, Висленеву и Горданову, и сказала: «Рекомендую вам, господа, сейчас войдет оригинал, подобного которому едва ли кто-нибудь из вас видел: он мистик и спирит».
— И даже медиум, мне кажется, — дополнила Лариса.
— И натурально шарлатан, — прибавил Горданов.
— Нимало, — ответила Бодростина.
По залу между тем уже раздавались тяжелые шаги Светозара Владеновича.
Водопьянов был одет очень хорошо, даже немножко щеголевато для деревни, держался скромно, но развязно и с самоуверенностью, но черные огненные глаза его вместе с непостижимою бледностию щек делали его и с виду человеком, выходящим из ряду вон.
Глафира Васильевна встретила его очень радушно, отрекомендовала его своим гостям и назвала ему гостей. Водопьянов изо всех трех знал одну Ларису, но, подав всем руку и обменявшись приветствиями с последним по очереди, Висленевым, сказал:
— Вас зовут Иосаф, очень редкое имя. Впрочем, все имена прекрасны, но не сообщают человеку своего значения.
— Это хорошо или дурно? — заговорила с ним Бодростина.
— Ни то, ни другое: человек значит только то, что он значит, все остальное к нему не пристает. Я сегодня целый день мучусь, заставляя мою память сказать мне имя того немого, который в одну из персских войн заговорил, когда его отцу угрожала опасность. Еду мимо вас и вздумал...
— Что у нас об этом знают?
— Да! Я думаю, здесь непременно есть люди, которые должны это знать.
— Господа! — обратилась с вопросом Бодростина.
Все молчали.
— Я каюсь в моем невежестве, — продолжала она, — я не знаю ни этого факта, ни этого имени.
— Факт несомненен, — утвердил Водопьянов.
— Он есть в истории: это было в одну из войн Кира, мне помнится, — заметил Горданов.
— Ах, вам это помнится! Я очень рад, очень рад, что вы это помните. Не правда ли, странный случай? Мне один медик говорил, что это совсем невозможно, почему же? не правда ли?
— Не знаю, как вам ответить: почему?
— Да; это смешно, в каком младенчестве еще естественные науки. Я предлагал премию тому, кто скажет, почему петух в полночь поет; никто до сих пор не взял ее. Поэтому я верю, что немой мог заговорить. В природе все возможно!
— Но возможно, чтобы курица ходила по улице, но чтобы улица ходила по курице, это невозможно!
— Кто знает? А как вы полагаете: возможно ли, чтобы щука выскочила сама из реки, вспрыгнула человеку в рот и задушила его?
— Не думаю.
— А между тем в тысяча восемьсот шестьдесят восьмом году, двадцать третьего июля, на Днепре, под Киевом, щука выпрыгнула из воды, воткнулась в рот хохлу, который плевал в реку, и пока ее вытащили, бедняк задохнулся. И следствие было, и в газетах писали. Что? — отнесся он и, не дождавшись ответа, продолжал: — Ужасны странности природы, и нам, докуда мы сидим в этом кожаном футляре, нельзя никак утвердительно говорить, что возможно и что невозможно. У меня есть сильнодействующее средство от зубной боли, мне дал его в Выборге один швед, когда я ездил туда искать комнату, где Державин дописал две последние строфы оды «Бог», то есть: «В безмерной радости теряться и благодарны слезы лить...» Я хотел видеть эти стены, но не нашел комнаты: у нас этим не дорожат... Да; но я говорю о лекарстве. Это сильное средство уничтожает нерв, и его можно капнуть только на нижний зуб, а для верхнего считалось невозможным, но я взял одну бабу, у которой болел верхний зуб, обвязал ей ноги платком и поставил ее в углу кверху ногами и капнул, и она потом меня благословляла. Я сообщал этот способ в газеты, — не печатают, тоже, говорят, «невозможно». В наших понятиях невозможное смешано с тем, что мы считаем невозможным. Есть люди, которые уверены, что человек есть кожаный мешок, а им, однако, кажется невозможным допустить, что даровитый человек, царствовавший в России под именем Димитрия, был совсем не Лжедимитрий, хотя кожаный мешок был похож как две капли воды.
— Вы, кажется, к Лжедимитрию неравнодушны? — молвила Бодростина.
— Да; бедный дух до сей поры беспокоится такою клеветой.
Бодростина переглянулась с гостями.
— Он кто ж такой?
— Когда он был духом, он не хотел этого ясно сказать, теперь же он опять воплощен, — отвечал спокойно Водопьянов.
— Вы не скрываете, что вы спирит? — отнесся к нему Висленев.
— Нет, не скрываю, для чего ж скрывать?
— Я тоже не скрываю, что не верю в спиритизм.
— Вы прекрасно делаете, но вы ведь спиритизма не знаете.
— Положим; но я знаю то, что в нем есть смешного: его таинственная сторона. Вы верите в переселение душ?
— Да, в перевоплощение духа.
— И в чудеса?
— Да, если чудесами называть все то, чего мы не научились еще понимать, или не можем понимать по несовершенству нашего понимательного аппарата.
— А чему вы приписываете его несовершенства?
— Природе этой плохой планеты. Плохая планета, очень плохая, но что делать: надо потерпеть, на это была, конечно, высшая воля.
— Вы, стало быть, из недовольных миром?
— Как вечный житель лучших сфер, я, разумеется, не могу восхищаться темницей, но, зная, что я по заслугам посажен в карцер, я не ропщу.
— И вы видали сами чудеса? — тихо вопросила его Лариса.
— О, очень много!
— Какие, например? Не можете ли вы нам что-нибудь рассказать?
— Могу охотно: я видел более всего нежданные победы духа злобы над чувствами добрейших смертных.
— Но тут ничего нет чудесного.
— Вы думаете?
— Да.
— О, ошибаетесь! Зло так гадко и противно, что дух не мог бы сам идти его путем, если бы не вел его сильнейший и злейший.
— Нет, вы скажите видимое чудо.
— Я видел Русь расшатанную, неученую, неопытную и неискусную, преданную ученьям злым и коварным, и устоявшую!
— Ну, что это опять за чудо?
— Каких же вы желаете чудес?
— Видимых воочию, слышимых, ощущаемых.
— О, им числа нет: они и в Библии, и в сказаниях, в семейных хрониках, и всюду, где хотите. Если это вас интересует, в английской литературе есть очень хорошая книжка Кроу, прочтите.
— Но вы сами ничего не видали, не слышали, не обоняли и не осязали?
— Видел, слышал, обонял и осязал.
— Скажите, что?
— Я в детстве видал много светлых бабочек зимой.
— Галлюцинация! — воскликнул Висленев.
— Ну, понятно, — поддержал Горданов.
— Это в пору детства; нет, вы скажите, не видали ли вы чего-нибудь в зрелые годы? — спросила Лариса.
— И, главное, чего-нибудь страшного, — добавила Бодростина.
— Да, видел-с, видел; я видел, золотой пух и огненный летали в воздухе, видел, как раз черная туча упала в крапиву.
— Это все не страшно.
— Я видел... видел на хромом зайце ехал бородатый старик без макушки, шибко, шибко, шибко, оставил свою гору, оставил чужую, оставил сорочью гору, оставил снежную и переехал за ледяную, и тут сидел другой старик с белою бородой и сшивал ремнями дорогу, а с месяца свет ему капал в железный кувшин.
— Это нелепости! — заметила Бодростина. — Скажите что-нибудь попроще.
— Проще? Это все просто. Я спал пред окном в Москве, и в пуке лунного луча ко мне сходил мой брат, который был в то время на Кавказе. Я встал и записал тот час, и это был...
— Конечно, час его кончины, — перебил Висленев.
— Да, вы именно отгадали: он в этот час умер.
— Это всегда так говорят.
— Но что вы слышали? — добивалась Лара, которой Водопьянов отвечал охотнее всех прочих.
— Я слышу много, много, много.
— И, виновата, вы и слышите все в таком же бестолковом роде, как видите, — отвечала Бодростина.
— А? Да, да, да, все так. Вода спит слышно. Ходит некто, кто сам с собою говорит, говоря, в ладоши хлопает и, хлопая, пляшет, а за ним идет говорящее, хлопающее и пляшущее. Все речистые глупцы и все умники без рассудка идут на место, о которое скользят ноги. Я слышу, скользят, но у меня медвежье ухо.
Он покачал свое густо обросшее волосами ухо и добавил:
— Мне не дано слышать ясно, но Гоголь слышал час своей смерти.
— Гоголь ведь, как известно, помешался пред смертью, — заметил Горданов.
Водопьянов улыбнулся.
— Вам это известно, что он помешался?
— Говорят.
— Однако все сбылось так, как он слышал.
— Случай.
— Но этим случаям числа нет. Иезекииль с Исаией пророком слышали, когда придет Христово царство.
— Оно же пришло: мы христиане.
— Нет, нет, тогда «все раскуют мечи на орала и копья на серпы». Нет, это не пришло еще.
— И не придет.
— Придет, придет, придет, люди станут умнее и будут добрее, и это придет.
— А что вы обоняли?
— Я обоняю... даже здесь теперь запах свежераспиленной сосны...
— Какие вздоры! Это я купаюсь в смоляном экстракте, — отвечала Бодростина, и, приближая к его лицу свою руку, добавила:— Понюхайте, не это ли?
— Нет, я слышу запах новых досок, их где-то стругают.
— Что за гиль! Гроб готовят, что ли? Нет, мы вам чудо гораздо получше расскажем, — воскликнула она и рассказала о странном и непонятном появлении ее мужа в распоронном мундире. — Скажите-ка, что это может значить?
— Надо молиться о нем.
— О чем же молиться? Ведь смерть по-вашему — блаженство.
— Да, смерти нет, нет Бога мертвых, нет и смерти, есть только Бог живых.
— Простите, я позабыла, что вы бессмертны.
— Как все с предвечного начала: «Я раб, я царь, я червь, я Бог».
— Каково! — воскликнула Бодростина, обращаясь к гостям, и затем добавила:— Allez droit devant vous, cher [Продолжайте дальше, дорогой (фр.)] Светозар Владенович, мы не устанем вас слушать!
Водопьянов промолчал.
Бодростина подумала, не оскорбился ли он, и спросила его об этом, но Сумасшедший Бедуин отвечал, что его обидеть невозможно, — всякий, обижая другого, — обижает себя и деморализуется.
— Ну, прочь мораль! Я не моральна! Скажите-ка нам что-нибудь о переходе душ. Мне очень нравится ваша теория внесения в жизнь готовых способностей, и я ее часто припоминаю: мне часто кажется, что во мне шевелится что-то чужое, но только вовсе не лестное, — добавила она с улыбкой к гостям. — Не была ли я, Светозар Владенович, Аспазией или Фриной, во мне прегадкие инстинкты.
— Что вы за вздоры говорите? — воскликнул слегка шокированный Висленев и, вставши, начал ходить.
Но Водопьянов отвечал Бодростиной, что все это очень возможно и что он сам был вор и безжалостный злодей.
— Во мне тоже, — отвечал он, — нет нимало врожденного добра.
— А между тем ведь вы добряк.
— Нет; я очень зол, но не хочу быть злым, — мне это стоило работы.
— А вы, конечно, знаете таких, которые перевоплощаются из честных душ и все честнеют?
— Да, я знаю один такой дух.
— Скажите, скажите о нем, — кто это такой?
— Его здесь звали на земле дон Цезарь де Базан.
— Испанский дворянин! — воскликнули все, не исключая лениво дремавшего Горданова.
— Да; он был испанский дворянин, и он сделал это слово кличкой. Вы помните его, разумеется, по театральной пьесе.
— Да; помним, помним; благороден, беден, горд и честен.
— И ко всему тому изрядно глуп, — подсказал Висленев.
— Оставим, господа, кому он чем кажется. Пусть лучше Светозар Владенович расскажет нам, как испанский дворянин переселялся и в ком он жил.
— Он жил в студенте Спиридонове, который в свою очередь жил в Москве в маленьком переулке возле Цветного бульвара. По крайней мере я там его узнал.
— И пусть отсюда ваш рассказ начнется уже без перерыва.
— Рассказывать я должен, начиная с дней давних.
— Мы слушаем. Я люблю всякий мистический бред, — заключила Бодростина, обращаясь к гостям. — В нем есть очень приятная сторона: он молодит нас, переносит на минуту в детство. Сидишь, слушаешь, не веришь и между тем невольно ноги под себя подбираешь.
Водопьянов начал.
Глава пятая. Рассказ Водопьянова.
— Студент Спиридонов, по множеству пороков, был неспособен к семейной жизни, а между тем он был женат, и женат по собственному побуждению и против своей воли, и с этих пор...
— Позвольте! с этих пор, конечно, не начнется бестолковщина?
— Зачем же? и с этих пор в студенте Спиридонове сказался его хозяин, но, впрочем, его надо было бы узнать гораздо прежде. Спиридонов мне раз все рассказал и сам над собой смеялся, хотя в его словах не было никакого смеха. Испанский дворянин ему являлся много раз.
— И въявь?
— Конечно, въявь, и в старом своем виде: с безвременною сединой в черных кудрях, с беспечнейшим лицом, отмеченным печатью доброты и кротости, с глазами пылкими, но кроткими, в плаще из бархата, забывшего свой цвет, и с тонкою длинною шпагой в протертых ножнах. Являлся так, как Спиридонов видел его на балаганной сцене, когда ярмарочная группа давала свои представления.
— Ну, слава Богу, — это обещает, кажется, быть интересным, и если история эта не кончится в пяти словах, то надо приказать дать свечу, чтобы после нас не прерывали.
— История довольно велика, — ответил Водопьянов.
Бодростина позвонила и велела дать огонь, хоть на дворе едва лишь смеркалось. Когда люди поставили лампы и вышли, опустя шторы у окон, Водопьянов продолжал:
— У студента Спиридонова был отец, — бедняк, каких немало на этой планете, где такая бездна потребностей; но ему, наконец, улыбнулось счастие. Он служил в гусарах на счет богатой тетки, — это, конечно, не особенно честно, но она этого хотела, и он это делал для поддержания ее фамильной гордости. Он, говорят, был красив: я его не видал, — когда я познакомился с его сыном, его уже не было на этом свете. В него влюбилась красавица помещица одного села, где он стоял. Она была богата, молода, и год как овдовела после мужа-старика, которому ее продали ради выгод и который безумно ревновал ее ко всем. Вдова, хотя имела детей, пошла за Спиридонова. Ее прокляли. За что и почему, — не знаю, но проклял ее родной отец, а за ним и мать. Потом ее, бедняжку, начали клясть все родине. По общему мнению, она была не вправе ни любить, ни называть супругом кого любила, но она все-таки вышла замуж и родила моего приятеля, студента Спиридонова, и потом жила пять лет и хворала. Спиридонов говорил, что его мать с отцом жили душа в душу, отец его боготворил жену, но, несмотря на то, она сохла и хирела. Отец его тоже часто был смущён и угрюм. Спиридонов тогда не знал, чему это приписывать, жили они довольно уединенно в городе, куда однажды заехали ярмарочные актеры...
— И дали здесь «Испанского Дворянина»? — подсказала Бодростина.
— Вы отгадали: актеры объявили, что они сыграют здесь «Испанского Дворянина». Мать Спиридонова, желая развлечь и позабавить сына, взяла ложу и повезла его в театр. И вот в то время, когда дон Цезарь де Базан в отчаянной беде воскликнул: «Пусть гибнет все, кроме моей чести и счастья женщины!» и театр зарыдал и захлопал плохому актеру, который, однако, мог быть прекрасен; мать Спиридонова тоже заплакала, и сын...
— Тоже заплакал, — сострил Висленев.
— Нет, — отвечал, нимало этим не возмущаясь, Водопьянов, — сын не заплакал. Сын нечто почувствовал, и, сжав материны руки, шепнул ей: — пускай живет у нас бедняк, Испанский Дворянин.
— Прекрасно, дитя мое, — мы позовем его, пускай живет.
И тем акт кончился, но дитя и завтра и послезавтра все докучало матери своею просьбой принять в дом бездомного Цезаря де Базана, и мать ему на это отвечала:
— Да, хорошо, дитя мое, он к нам придет, придет.
— И будет жить?
— И будет жить.
— Когда же, мама? Когда же он придет и будет жить у нас? — тосковало дитя. — А как же звать его? Я позову.
А дело было в сумерки, осенним вечером. Мать любовалась сыном и пошутила:
— Нагнись, — говорит, — к печке и позови его через трубу — он будет слышать.
Спиридонов прыгнул и крикнул:
— Дон Цезарь де Базан, идите сюда!
— Гу-гу-гу-иду! — загудело в трубе, так что мальчик в испуге отскочил.
Но прошел день-другой, и он опять пристает: когда же?
— А вот теперь уж скоро: я за ним схожу и приведу его, — отвечала мать и вслед за тем умерла.
— Умерла? — воскликнула Лариса.
— Да; то есть ушла отсюда, переселилась, народ это прекрасно выражает словом «побывшилась на земле». Она кончила экзамен, и ее не стало.
— А что же Испанский Дворянин, которого она обещала прислать?
— О, она сдержала слово! Она его послала, вы это сейчас увидите. Дело было в том же маленьком городе на крещенские святки. Гроб с телом матери стоял в нетопленной зале, у гроба горели свечи, и не было ни одного человека. Отец Спиридонова должен был выслать даже чтеца, потому что в смежной комнате собрались родные первого мужа покойной и укоряли Спиридонова в присвоении себе принадлежащих им достатков. Был час девятый. Мой друг, студент Спиридонов, тогда маленький мальчик, в черной траурной рубашке, пришел к отцу, чтобы поцеловать его руку и взять на сон его благословение, но отец его был гневен и суров; он говорил с одушевлением ему: «Будь там», и указал ему вместо дверей в спальню — на двери в залу. Дитя вошло в холодную залу и, оробев при виде всеми брошенного гроба, припало в уголок мягкого дивана ближе к двери той гостиной, где шла обидная и тягостная сцена. Он мне от слова и до слова повторял кипучие речи его отца; я их теперь забыл, но смысл их тот, что укоризны их самим им принесут позор; что он любил жену не состоянья ради, и что для одного того, чтобы их речи не возмущали покоя ее новой жизни, он отрекается от всего, что мог по ней наследовать, и он, и сын его, он отдает свое, что нажито его трудом при ней, и... Тут далее мой приятель не слышал ничего, кроме слитного гула, потому что внимание его отвлек очень странный предмет: сначала в отпертой передней послышался легкий шорох и мягкая неровная поступь, а затем в темной двери передней заколебалась и стала фигура ясная, определенная во всех чертах; лицо веселое и доброе с оттенком легкой грусти, в плаще из бархата, забывшего свой цвет, в широких шелковых панталонах, в огромных сапогах с раструбами из полинявшей желтой кожи и с широчайшею шляпою с пером, которое было изломано в стебле и, шевелясь, как будто перемигивало с бедностью, глядевшей из всех прорех одежды и из самых глаз незнакомца. Одним словом, это пришел...
— Пьяный святочный ряженый, — решил Висленев.
— Испанский Дворянин! — возразил строгим тоном Водопьянов. — Он плох был на ногах, но подошел к стоявшей у стены крышке гроба и осязал ее. Тщательно осязал, вот так.
И Сумасшедший Бедуин встал на ноги, расставил руки и, медленно обозначая ими определенное пространство на стене под портретом Бодростина, показал, как ощупывал гробовую крышку Испанский Дворянин.
— Потом он подошел к трупу и стал у изголовья гроба, и в это время вдруг отец Спиридонова вбежал, рыдая, в зал, упал пред гробом на колени и закричал: «О, кто же им ответит за тебя, что я тебя любил, а не твое богатство?» И тихий голос отвечал скромно: «Я».
— И это был Испанский Дворянин?
— Нет, пьяный святочный ряженый, — ответил почти гневно Водопьянов. — Взять его вон! Кто пустил сюда этого пьяного святочного ряженого? Неужели уж до того дошло, что и у ее гроба нет рачения и присмотра? Вон, вон выгнать сейчас этого пьяного ряженого! — кричал огорченный вдовец и рванулся к тому, но его не было.
— Удрал?
— Да; так все думали, и Спиридонов очень рассердился на слуг и стал взыскивать, зачем так долго не запирают калитки.
— И выходит очень простая история, — сказал Висленев.
— Да простая и есть, только оказалось, что калитка была заперта, и отец Спиридонова вернулся и вдруг увидал, что родные хотят проститься с покойницей.
— Нет! — закричал он, — нет, вы ее так обижали, что вам с нею не нужно прощаться! — и схватил крышу и хотел закрыть гроб, а крыша сделалась так легка, как будто ее кто-нибудь еще другой нес впереди, и сама упала на гроб, и мой приятель Саша Спиридонов видел, что Испанский Дворянин вскочил и сел на крыше гроба.
— И только? Он это видел во сне и более ничего.
— Да, более ничего.
— Испанский Дворянин более не являлся?
— Да, в это время не являлся. После они очень бедно где-то жили в Москве, в холодном доме. Однажды, оставив сына с нянькой в комнате потеплее, Спиридонов сам лег в зале на стульях. Утром пришли, а там лежит один труп: вид покойный, и пальцы правой руки сложены в крест. Женины родные хотели его схоронить с парадом, но Испанский Дворянин этого не позволил.
— Каким же образом?
— Он приснился молодому Спиридонову и сказал: «там, под клеенкой», и Спиридонов нашел под клеенкой завещание отца, ничего ни от кого на погребение его не принимать, а схоронить его в четырех досках на те деньги, какие дадут за его золотую медаль, да за Георгиевский крест.
— И это все!
— А вы ничего здесь не видите особенного?
— Признаемся, ничего не видим: случайности да сны, сны да случайности, и больше ничего.
— Конечно. Что же может быть проще того, что все люди по случайностям не доживают на земле своего времени! Век человеческий здесь, по библейскому указанию, семьдесят лет и даже восемьдесят, а по случайностям человечество в общем итоге не доживает одной половины этого срока, и вас нимало не поражает эта ужасная случайность? Я желал бы, чтобы мне указали естественный закон, по которому человеческому земному организму естественно так скоро портиться и разрушаться. Я полагаю, что случайности имеют закон.
— Но этот сумасшедший бред несносно долго слушать, — шепнул на ухо Бодростиной Висленев.
— Нет, я люблю, — отвечала она тоже тихо, — в его нескладных словах всегда есть какие-то штришки, делающие картину, это меня занимает... Светозар Владенович, — отнеслась она громко, — а где же ваш Испанский Дворянин?
— Он продолжает-с дебютировать. Студент Спиридонов жил в ужасной бедности, на мезонинчике, у чиновника Знаменосцева, разумеется, платил дешево и то неаккуратно, потому что, учась, сам содержал себя уроками, а ни роду, ни племени до него не было дела. При этом же студент Спиридонов был добряк превыше описания, истинно рубашку последнюю готов был отдать, и не раз отдавал, и вдобавок был не прочь покутить и приволокнуться. Он был медик. Не знаю, как он учился, но думаю, что плохо, потому что больше всего он тратил времени на кутежи с веселыми людьми, однако окончил курс и получил степень лекаря, да все забывал хлопотать о месте. Судьба, впрочем, была к нему так милостива, что он без всяких собственных хлопот получал два раза назначение, но всякий раз он находил кого-нибудь из товарищей, который, по его мнению, гораздо более его нуждался в должности. В Спиридонове пробуждался Испанский Дворянин, и он оба свои назначения уступал другим, а сам кутил да гулял и догулялся до того, что остались у него рыжий плащ, гитара да трубка с чубуком. У хозяина же его, Знаменосцева, была восемнадцатилетняя дочь Валентина, девочка с мудреным характером. Много читала и начиталась до того, что она очень умна, а это было, кажется, совсем наоборот. Спиридонов с Валентиной был и знаком, и нет: он с нею, случалось, разговаривал, но никогда долго не говорил. Прислужится ей книжкой, она прочитает и отдаст ее назад, а он спросит: «Хорошо?», она ответит: «Хорошо». Спиридонов, разумеется, о другой спросит: «Дрянь книга?», она ответит: «Эта мне не нравится», он опять рассмеется. «Вы, Лётушка, — говорит он ей, — лучше бы не читали книг, а то труднее жить станет». Она, однако, не слушала и читала. Жизнь этой девушки была обыкновенная жизнь в доме мелкого чиновника, пробивающегося в Москве на девятнадцать рублей месячного жалованья и рублей пять-шесть каких-нибудь срывков с просителей. Отец ходил утром на службу, после обеда спал, в сумерки, для моциона, голубей пугал, а вечером пил; мать сплетничала да кропотала и сварилась то с соседями, то с работницей; девушка скучала. Она была ни хороша, ни дурна: остролиценькая, черненькая, быстрая и характерная, говорила много, домашним ничем не занималась, сплетен не слушала и к нарядам обнаруживала полнейшее равнодушие. Вдруг этого Знаменосцева выгнали со службы за какую-то маленькую плутню. Семья так и взвыла, а детей у них, кроме Летушки, была еще целая куча и все мал мала меньше. В домике у них всего было две квартиры, с которых с обеих выходило доходца в месяц рублей двенадцать, да и то одна под эту пору пустовала, а за другую Спиридонов месяца три уже не платил. Пришлось семье хоть последний домик продавать, проесть деньги, а потом идти по миру или стать у Иверской. В таких случаях люди всегда ищут виноватых, и у Знаменосцева нашлась виноватою старшая дочь: зачем она о сию пору замуж не вышла? Показывали ей, что и тот-то приказный хорош, а того-то заловить бы можно, и начались через это девушке страшные огорчения, а как беда никогда не ходит одна, то явилось ей и подспорье. Приказному Знаменосцеву время от времени помогал помещик Поталеев, из одной из далеких губерний. Такие благодетели встарь наживались у московских сенатских приказных. Знаменосцев сообщал Поталееву справочки по опекунскому совету, по сенату, делал закупки, высылал книги, а Поталеев за то давал ему рублей сто денег в год, да пришлет, бывало, к Рождеству провизии да живности, и считался он у них благодетелем. Какой это человек был по правилам и по характеру, вы скоро увидите, а имел он в ту пору состояние большое, а на плечах лет под пятьдесят, и был так дурен, так дурен собою, что и рассказать нельзя: маленький, толстый, голова как пивной котел, седой с рыжиною, глаза как у кролика, и рябь от оспы до того, что даже ни усы, ни бакенбарды у него совсем не росли, а так только щетинка между желтых рябин кое-где торчала; простые женщины-крестьянки и те его ужасались...
— Какая прелесть! — прошептала Бодростина.
— Да; но он, впрочем, и сам боялся женщин и бегал от них.
— Чудо! чудо! Где он, этот редкий смертный!
— Он умер! — отвечал, сконфузясь, Водопьянов, и тотчас продолжал. — Вот он и приехал в ту пору в Москву и стал у Знаменосцевых на их пустую квартиру, которую они для него прибрали и обрядили, и начал он давать им деньги на стол и сам у них стал кушать, приглашая всю их семью, и вдруг при этих обедах приглянулась ему Валентина; он взял да за нее и посватался. Знаменосцевы от радости чуть с ума не сошли, что будут иметь такого зятя — и богатого, и родовитого; он их возьмет в деревню, сделает старого приказного управителем, и начнется им не житье, а колыванье. Сразу они и слово дали, и всем людям свою радость объявили, забыли только дочь об этом спросить, а в этом-то и была вся штука. Летушка спокойно, но твердо наотрез объявила, что она за Поталеева замуж не пойдет. Ее побили, и больно побили, а она и сбежала, и пропадала дня с три. Родители, разумеется, страшно перепугались, не сделала бы она чего с собою, да и от Поталеева этого нельзя было скрыть, он сам отгадал в чем дело и, надо отдать ему честь, не похвалил их, он прямо сказал им, что ни в каком случае не хочет, чтобы девушку неволили идти за него замуж. У семьи явилось новое горе: все надежды сразу оборвались и рухнули. А тем временем Валентина вдруг к исходу третьего дня вечерком и является. Вернулась она домой никем не замеченная в сумерки и села у окошка. Ее уж не бранили, куда тут до брани! Ее начинают просить, да ведь как просить: отец с матерью со всею мелкотой на колени пред нею становятся. «Мы, — говорят, — все тебя, Летушка, любим, пожалей же и ты нас», а она им в ответ: «Какая же, — говорит, — ваша любовь, когда вы хотите моего несчастия? Нет, я вас не должна жалеть после этого». А тут Поталеева пригласили, и тот говорит: «Бога ради не думайте, я никакого насилия не хочу, но я богат, я хотел бы на вас жениться, чтобы таким образом вас обеспечить. Я любви от вас не потребую, но я сам люблю вас». Но Летушка вдруг встала и что же сделала: «Любите, — говорит, — меня? Не верю вам, что вы меня любите, но так и быть, пойду за вас, а только знайте же, вперед вам говорю, что я дурно себя вела и честною девушкой назваться не могу». Отец с матерью так и грохнули на пол, а Поталеев назад, но затем с выдержкой, прикрывая свою ретираду великодушием: «Во всяком случае, — говорит, — чтобы доказать вам, что я вас любил и жалею, скажите вашему обольстителю, чтоб он на вас женился, и я буду о нем хлопотать, если он нуждается, и я всегда буду помогать вам». А Лета отвечает: «Нет моего обольстителя, он меня бросил». Ну так и делать было нечего, и старик отец сказал: «Иди же ты, проклятая, иди откуда ты сегодня пришла, теперь на тебе никто не женится, а сраму я с тобою не хочу». И повернул он дочь к двери, и она пошла, но на пороге вдруг пред всеми Спиридонов в своем рыжем плаще: он был пьян, качался на ногах и, расставив руки в притолки, засмеялся и закричал:
— Кто смеет гнать из дому девушку? Ха-ха-ха! Не сметь! Я этого не позволю.
— Я вас самих выгоню! — отвечал приказный.
— Тс-с! Ха-ха-ха! Что такое выгоню?.. Не сметь!.. тс!..
Ему пригрозили полицией.
— Не сметь! — отвечал, шатаясь, Спиридонов, — полицию?.. Сокрушу полицию! Вот! — и он хлопнул кулаком по столу и отбил угол. — Да! За все заплачу, а девушку гнать не смеете! Я ей покровительствую... да! Чем вы, Лета, проштрафились, а? Да; я все слышал, я ключ под окном уронил и искал и все слышал... Обольститель!.. Негодяй!., он виновен, а не вы... вас нельзя вон, он, — продолжал Спиридонов, указывая на Поталеева, и, подумав с минуту, добавил, — он тоже негодяй... Тсс? никто ни слова не сметь; я на ней женюсь, да! У меня есть чести на двух; и на свою и на ее долю. Хотите, Лета, быть моей женой, а? Я вас серьезно спрашиваю: хотите?
— Хочу, — вдруг неожиданно отвечала Валентина.
— Руку вашу! Давайте мне вашу бедную руку.
Валентина смело подошла и, не глядя на Спиридонова, подала ему обе свои руки.
— Браво! — закричал Спиридонов, — браво! Вот вы... как вас... — обратился он к Поталееву. — Ха-ха-ха, не умели сделать, а теперь... теперь эта невеста моя. Да, черт возьми, моя! Мы с нею будем петь дуэтом: «у меня всего три су, у жены моей четыре: семь су, семь су, что нам делать на семь су?» Но ничего, моя Лета, не робей, будем живы и будем пить и веселиться, вино на радость нам дано. Не робей! Александр Спиридонов, Испанский Дворянин, он уважает женщину, хотя у него двадцать тысяч пороков. Забудется он, ты скажи ему: «Сашка, стой!» — и все опять будет в порядке. Родители, я оставляю вам дочь вашу на три дня под сохранение, и через три дня буду с нею венчаться! Да! Беречь ее! Я строг: беречь, ни в чем ей не сметь отказывать, пусть ходит, куда хочет, пусть делает, что хочет, потому что я так хочу, я ее будущий муж, глава и повелитель! Ха-ха-ха, слышишь, Лета, я твой повелитель; да! А приданого не сметь... Боже сохрани, а то... ха-ха-ха... а то прибью, если кто подумает о приданом. Ну и все теперь, спите, добрые граждане, уж одиннадцать часов, и я хочу спать. Аминь.
И с этим он поцеловал при всех невесту в голову, еще раз велел ей не робеть и ушел.
Поталеев тоже отправился в свое помещение и разделся, но еще не гасил огня и, сидя у открытого окна, курил трубку. В закрытые ставнями окна хозяев ничего не было видно, но мезонинная конура Спиридонова была освещена свечкой, воткнутой в пустую бутылку. Из этого мезонина неслись по двору звуки гитары, и звучный баритон пел песню за песней.
«Вот оно настоящий-то сорвиголова! — подумал Поталеев. — Так вот оно на ком она споткнулась? да и ничего нет мудреного, живучи на одном дворе. Мудрено только одно, что мне это прежде не пришло в голову. Да полно, и женится ли он на ней вправду? Ведь он сегодня совсем пьян, а мало ли что спьяна говорится».
И Поталеев опять взглянул в мезонинное окно и видит, что Спиридонов стоит в просвете рамы, головой доставая до низенького потолка, и, держа пред собою гитару, поет. Слова звучные, мотив плавучий и страстный, не похожий на новые шансонетки:
Сам умею я петь,
Мне не нужно октав,
Мне не нужно руки,
Хладных сердцу отрав...
Одного жажду я: поцелуя!
но тут лекарь быстро подвинулся к окну и, взяв другой аккорд, запел грустную и разудалую:
Что б мы были без вина?
Жизнь печалями полна;
Все грозит бедой и злом,
Но если есть стакан с вином...
Он опять не докончил песни и быстро исчез от окна, и комната его осталась пустою, по ней только мерцало пламя свечи, колеблемое легким ночным ветром; но зато по двору как будто прошла темная фигура, и через минуту в двери Поталеева послышался легкий стук.
— Кто там стучит? — осведомился Поталеев, бывший в своем помещении без прислуги, которая ночевала отдельно.
Но вместо ответа за дверью раздался звук гитары и знакомый голос запел:
Кто там стучится смело?
Со гневом я вскричал.
«Согрей обмерзло тело»,
Сквозь дверь он отвечал.
— Испанский Дворянин делает вам честь своим посещением, — добавил Спиридонов.
Поталеев был в некотором затруднении, что ему сделать, и не отвечал.
— Что же? — отозвался Спиридонов. — Дайте ответ. Я
Исполнен отваги, закутан плащом,
С гитарой и шпагой стою под окном.
— Войдите, прошу вас, — отвечал совсем смешавшийся Поталеев и отпер двери.
На пороге показался Спиридонов в туфлях, накинутом на плечи фланелевом одеяле и с гитарой в руках.
— Ха-ха-ха, — начал он, — я вас обеспокоил, но простите, пожалуйста, бывают гораздо худшие беспокойства: например очень многих голод беспокоит...
— Ничего-с, — ответил Поталеев и хотел попросить Спиридонова садиться, но тот уже сам предупредил его.
— Не беспокойтесь, — говорит, — я сам сяду, а я вот что... Помогите мне, пожалуйста, допеть мою песню, а то я совсем спать не могу.
Поталеев выразил недоумение.
— Вы меня не понимаете, я это вижу.
Все грозит бедой и злом,
Но если есть стакан с вином...
а стакана-то с вином и нет. Все спущено, все... кроме чести и аппетита.
— Очень рад, что могу вам служить, — ответил Поталеев, вынимая из шкафа откупоренную бутылку хереса.
— У вас, я вижу, благородное сердце. Вино херес... это благородное вино моей благородной родины, оно соединяет крепость с ароматом. Пью, милостивый государь, за ваше здоровье, пью за ваше благородное здоровье.
— Да! это настоящий херес! — продолжал он, выпив рюмку и громко стукнув по столу.
Все грозит бедой и злом.
Но если есть стакан с вином,
Выпьем, выпьем, все забыто!
Выпьем, выпьем, все забыто!
Да; я пью теперь за забвение... за забвение всего, что было там. Понимаете, там... Не там, где море вечно плещет, а вот там, у нашего приказного.
— Вы, кажется, не должны и не имеете права забыть всего, что там было?
— Тс! Не сметь! Ни слова! Кто сказал, что я хочу забыть? Спиридонов, Испанский Дворянин... он ничем не дорожит, кроме чести, но его честь... тс!.. Он женится, да... Кто смеет обижать женщину? Мы все хуже женщин, да... непременно хуже... А пришел я к вам вот зачем: я вам, кажется, там что-то сказал?
— Право, не помню.
— Тс!.. ни слова!.. Не выношу хитростей и становлюсь дерзок. Нет; я вас обидел, это подло, и я оттого не мог петь; и я, Испанский Дворянин, не гнущий шеи пред роком, склоняю ее пред вами и говорю: простите мне, синьор, я вас обидел.
И с этим он низко поклонился Поталееву и протянул ему руку и вдруг крайне ему понравился. Чем Поталеев более в него всматривался и вникал, тем более и более он располагался в пользу веселого, беспечного, искреннего и вместе с тем глубоко чувствующего Спиридонова.
— Послушайте, — сказал он, — будем говорить откровенно.
— Всегда рад и готов, и иначе не умею.
— У нас ведь, должно быть, никаких нет определенных планов насчет вашего самого ближайшего будущего?
— Никакейших! — отвечал Спиридонов, смакуя во рту херес.
— Что же вы будете делать?
— А бис его знает! — и с этим Спиридонов встал и, хлопнув по плечу Поталеева, проговорил: — а несте ли чли: «не пецытеся об утреннем, утреннее бо само о себе печется». Тс! ни слова мне, я одного терпеть не могу, знаете чего? Я терпеть не могу знать, что я беден!
И с этим он еще выпил рюмку хереса и ушел.
На другой день Поталеев заходит к Спиридонову и сообщает ему, что у них в городе есть вакантное место врача, причем он ему предлагает шестьсот рублей жалованья за свое лечение и лечение его крестьян.
— Что же, и брависсимо! — отвечал Спиридонов. — Если Лета согласна, так и я согласен.
— Она согласна.
— Ну и валяйте, определяйте меня, я еду.
Через два дня была свадьба Спиридонова с Летушкой, а через неделю они поехали в крытом рогожном тарантасике в черноземную глушь, в уездный городок, к которому прилегали большие владения Поталеева.
— Не наскучил ли я вам с моею историей Испанского Дворянина? — спросил, остановясь, Водопьянов.
— Нимало, нимало! Это теперь именно только и становится интересно, и я хочу знать, как этот буфон уживется с женой? — отвечала Бодростина.
— В таком случае я продолжаю.
Супруги эти с первой же поездки показали, как они заживут. На триста рублей, подаренных Поталеевым молодой, они накупили подарков всем, начиная с самих приказных и кончая стряпухой, рублей пятьдесят выдали во вспомоществование какому-то семейству, остальное истратили в Москве и остались совсем без денег.
Поталеев уж сам нанял им лошадей и снабдил их деньгами через Летушку. Спиридонова нимало не занимало, откуда берутся у жены деньги, — он об этом даже не полюбопытствовал узнать у нее. Дорогой они опять пожуировали, и извозчик вез-вез их, да надокучило ему, наконец, с ними путаться, а деньги забраны, он завернул в поле во время грозы, стал на парине, да выпряг потихоньку коней и удрал. Так гроза прошла, а они стоят в кибитке и помирают-хохочут. Едет дорогой исправник и смотрит, что за кибитка такая без лошадей посреди поля стоит? Свернул к ним, спрашивает, они ему и говорят кто они такие: новый доктор с женой. Приехал исправник в город, выслал за ними земских лошадей, их и перевезли, и перевезли прямо на постоялый двор, а они тут и расположились. Говорят Спиридонову: «Вы бы к кому-нибудь явились», — а он только рукой машет. «Да ну их, — говорит, — захотят, сами ко мне явятся». И точно, что же вы думаете, ждали, ждали его к себе различные городские власти, и сами стали к нему являться, а он преспокойно всех угостит, всех рассмешит, и все его полюбили.
— Ищите же, — говорят, — себе квартиры, — и тот указывает на одно, другой — на другое помещение, а он на все рукой машет: «Успеем, — говорит, — еще и на квартире нажиться».
И тут опять спешит ему в подмогу случай: городского головы теща захворала. Сто лет прожила и никогда не болела и не лечилась, а вдруг хворьба пристигла. Позвали немца-доктора, тот ощупал ее и говорит: «Издохни раз», а она ему: «Сам, — говорит, — нехрист, издохни, а я умирать хочу». Вот и послали за новым лекарем. Спиридонов посмотрел на больную и говорит:
— Вы, бабушка, сколько пожили? Та отвечает:
— Сто лет.
— Чудесно, — похвалил ее Спиридонов, — вы, верно, родителей своих почитали?
Старуха посмотрела на него и говорит своим окружающим:
— Вот умный человек! Первого такого вижу! — А потом оборотилась к нему, — именно, — говорит, — почитала, меня тятенька тридцатилетнюю раз веревкой с ушата хлестал.
— И вам еще сколько лет хочется жить? — спросил ее Спиридонов.
— Да нисколько мне не хочется, мне уж это совсем надоело.
— Вот и чудесно, — отвечает Спиридонов, — мне и самому надоело.
Старуха даже заинтересовалась: отчего это человеку так рано жить на доело?
— Жена, что ли, у тебя лиха?
— Нет, жена хорошая, а я сам плох.
Старуха раздивовалась, что такое за человек, который только приехал и сам себя на первых же порах порочит.
— Не выпьешь ли, — говорит, — батюшка, водочки и не закусишь ли ты? Ты мне что-то по сердцу пришел.
— Позвольте, — отвечал Спиридонов, — и закушу, и выпью.
И точно, и закусил, и выпил, и старуха ему сама серебряный рубль дала.
— Еще, — говорит, — и завтра приходи ко мне, если доживу. Пока жива, все всякий день ко мне приходи, мне с тобой очень занятно.
И опять пришел Спиридонов, и опять старуха его запотчевала, и опять ему рубль дала, и пошло таким образом с месяц, каждый день кряду, и повалила Спиридонову практика, заговорили о нем, что он чуть не чудотворец, столетних полумертвых старух и тех на ноги ставит! Лечил он пресчастливо, да и не диво: человек был умный и талантливый, а такому все дается. Не щупавши и не слушавши узнавал болезнь, что даже других сердило. Раз жандармский офицер проездом заболел и позвал его. Спиридонов ему сейчас рецепт. Тот обиделся. «Что это, — говорит, — за невнимание, что вы даже язык не попросили меня вам показать?» А Спиридонов отвечает: «что же мне ваш язык смотреть? Я и без того знаю, что язык у вас скверный». Одним словом, все видел. Пьяненек иногда прихаживал, и то не беда. Напротив, слава такая прошла, что лекарь как пьян, так вдвое видит, и куда Спиридонов ни придет, его все подпаивают: все двойной удали добиваются. Таким манером и прослыл он гулякой, и даже приятельница его, Головина теща, ему сказала:
— Вижу, — говорит, — я, чем ты, отец лекарь, плохо-то называешься! Ты совсем пить не умеешь.
— Истинно, — говорит, — вы это вправду сказали, совсем пить не умею.
— То-то, ты вина-то не любишь, все это сразу выпить хочешь. А ты бы лучше его совсем бросил.
— Да как, — отвечает, — бросить-то? А не равно как хороший человек поднимет, за что он тогда будет за меня мучиться.
Старуха расхохоталась.
— Ох, пусто тебе будь, говорит, — пей уж, пей, да только дело разумей.
Но Спиридонов, пивши таким образом, конечно, скоро перестал разуметь и дело. Однако ему все-таки везло. Головина теща перед смертию так его полюбила, что отказала домик на провалье, в который он наконец и переехал с постоялого двора, а Поталеев как только прибыл, так начал производить Спиридонову жалованье и помогал ему печеным и вареным, даже прислуга, и та вся была поталеевская, лошади и те поталеевские, и все это поистине предлагалось в высшей степени деликатно и совершенно бескорыстно. Поталеев оберегал Летушку и любил Спиридонова как прекраснейшего человека. В городе и все, впрочем, его любили, да и нельзя было не любить его: доброта безмерная, веселость постоянная и ничем несмущаемая; бескорыстие полное: «есть — носит, нет — сбросит», и ни о чем не тужит. Жена ему тоже вышла под пару. Никто ей надивиться не мог; никто даже не знал, страдает она или нет от мужниных кутежей. Всегда она чистенькая, опрятная, спокойная. Про несогласия у них и не слыхивано; хозяйка во всем она была полновластная, но хозяйства-то никакого не было: сядут обедать, съедят один суп, кухарка им щи подает.
— Это что же такое, — воскликнет Спиридонов, — зачем два горячих?
— А барыня, мол, так приказала.
А Лета и расхохочется.
— Извини, — скажет, — Саша, это я книги зачиталась.
И хохочут оба как сумасшедшие, и едят щи после супа.
Гости у Леты были вечные, и все были от нее без ума, и старики, и молодые. Обо всем она имела понятие, обо всем говорила и оригинально, и смело. У нее завелись и поклонники: инвалидный начальник ей объяснялся в прозе и предлагал ей свое «сердце, которое может заменить миллионы», протопоповский сын, приезжавший на каникулы, сочинял ей стихи, в которых плакал, что во все междуканикулярное время он
Повсюду бросал жаждущий взор,
Но нигде не встречал свой небесный метеор.
Соборный дьякон, вдовец, весь ее двор собственною рукой взрыл заступом, поделал клумбы и насажал левкоев; но это все далекие обожатели, а то и Поталеев сидел у нее по целым дням и все назывался в крестные отцы, только крестить было некого. Так прошел год, два и три: Летушка выросла, выровнялась и расцвела, а муж ее подувял: в наружности его и в одежде, во всем уже виден был пьяница. От общества он стал удаляться и начал вести компанию с одним дьяконом, с которым они пели дуэтом «Нелюдимо наше море» и крепко напивались. В это время и случись происшествие: ехала чрез их город почтовая карета, лопнул в ней с горы тормоз, помчало ее вниз, лошадей передушило и двух пассажиров искалечило: одному ногу переломило, другому — руку. Были это люди молодые, только что окончившие университетский курс и ехавшие в губернский город на службу, один — товарищем председателя, другой — чиновником особых поручений к губернатору. Спиридонов забрал их обоих к себе в дом и начал лечить и вылечил, и пока они были опасны, сам не пил, а как те стали обмогаться, он опять за свое. «Теперь Лете, — говорит, — не скучно, ее есть кому забавлять», — и точно нарочно от нее стал отдаляться; а из пациентов богатый молодой человек, по фамилии Рупышев, этим временем страстно влюбился в Летушку. Уже оба эти больные и выздоровели, и все не едут: одного магнит держит, другой для товарища сидит, да и сам тоже неравнодушен. Но, наконец, стали они собираться ехать и захотели поблагодарить хозяина, а его нет, нет и день, и два, и три, и ночевать домой не ходит, все сидит у дьякона. Ну, просто сам наводит руками жену Бог весть на что.
— На что же он ее наводил? — перебила Бодростина, смеясь и тихо дернув под столом за полу сюртука Висленева. Но Водопьянов словно не слыхал этого вопроса и продолжал:
— В городе давно уже это так и положили, что Лета мужа не любит и потому ей все равно, а он ее рад бы кому-нибудь с рук сбыть. Чем же он занимался у дьякона? Рупышев, уезжая, пошел к ним, чтобы посмотреть, проститься и денег ему дать за лечение и за хлеб за соль. Приходит; на дворе никого, в сенях никого и в комнатах никого, все вокруг отперто, а живой души нет. Но только вдруг слышит он тупые шаги, как босиком ходят, и видит, идет лекарь, как мать родила, на плече держит палку от щетки, а на ней наверху трезубец из хворостинки. Идет и не смотрит на гостя, и обошел вокруг печки и скрылся в другую комнату, а чрез две минуты опять идет сзади и опять проходит таким же манером. «Доктор! — зовет Рупышев, — доктор! Александр Иваныч!» — а Спиридонов знай совершает свое течение. Рупышев опять к нему, да уж с докукой, а тот, не останавливаясь и не оборачиваясь в его сторону, отвечает: «Оставьте меня, я Нибелунг», — и пошел далее. «Фу ты, черт возьми, до чего человек допился!» — думает гость, а между тем из-под стола кто-то дерг его за ногу. Смотрит Рупышев, а под столом сидит дьякон.
— Дразните, — говорит, — меня, я медведь.
Гость-то его и утешь, и подразни.
— «Р-р-р-р-р!» — говорит, — да ногой и мотнул, а дьякон его как хватит за ногу, да до кости прокусил, и стало опять его нужно лечить от дьяконова укушения. Тут-то Рупышев с Летушкой и объяснился. Она его выслушала спокойно и говорит: «Не ожидала, чтобы вы это сделали».
— Да будто, — говорит, — вы вашего мужа любите? — «А я, — отвечает Летушка, — разве вам про это позволяла что-нибудь говорить?» — И при этом попросила, чтоб он об этом больше никогда и речи не заводил. Вот этот Рупышев и поехал, да ненадолго: стал он часто наезжать и угождениям его Летушке и конца не было. Чего он ей ни дарил, чего ни присылал, и наконец в отставку вышел и переехал жить к ним в город, и все знали, что это для Летушки. Спиридонов его принимал радушно и сам к нему хаживал, и жизнь шла опять по-старому. Придет Спиридонов ночью домой, прокрадется тихонько, чтобы не разбудить Летушку, и уснет в кабинетике, та и не знает, каков он вернулся.
Но вдруг Лета заподозрела, что Рупышев ее мужа нарочно спаивает, потому что Спиридонов уж до того стал пить, что начал себя забывать, и раз приходит при всех в почтовую контору к почтмейстеру и просит: «У меня, — говорит, — сердце очень болит, пропишите мне какую-нибудь микстуру». Рупышев действительно нарочно его спаивал, и Лета в этом не ошибалась.
Пошел раз лекарь к Рупышеву, и нет его, и нет, а ночь морозная и по улицам носится поземная метель. Не в редкость это случалось, но только у Леты вдруг стала душа не на месте. Целую ночь она и спит и не спит: то кто-то стучит, то кто-то царапается и вдруг тяжелый-претяжелый человек вошел и прямо повалился в кресло у ее кровати и захрапел. Летушка так и обмерла, проснулась, а возле постели никого нет, но зато на пороге стоит человек в плаще, весь насквозь, как туман, светится и весело кланяется. Она его впросоньи спросила: «Кто вы и что вам нужно?» А он ей покивал и говорит: «Не робей, я поправился!» Это было перед рассветом, а на заре пришли люди и говорят: «Лекаря неживого нашли, заблудился и в канаве замерз».
— Ну-с, — подогнала рассказчика Бодростина.
— Ну-с, тут и увидели Лету, какая она. Она окаменела: «Нет, — говорит, — нет, это благородство не могло умереть, — оно живо. Саша, мой Саша! приди ко мне, мой честный Саша!»
Схоронили-с Спиридонова. Лета осталась без всяких средств; Поталеев ее, впрочем, не допускал до нужды, от него она брала, а Рупышеву и все его прежние подарки отослала назад. Рупышев долго выбирал время, как ей сделать предложение, и наконец сделал, но сделал его письменно. Летушка что же ему ответила? «Было время, — написала она, — что вы мне нравились, и я способна была увлечься вами, а увлечениям моим я не знаю меры, но вы не умели уважать благороднейшего моего мужа, и я никогда не пойду за вас. Не возвращайтесь ко мне ни с каким предложением: я вечно его, я исполню мой долг, если только в силах буду сравняться с его мне одной известным, бесконечным великодушием и благородством».
После этого Летушка ни самого Рупышева не приняла, ни одного его письма не распечатала и вскоре же, при содействии Поталеева, уехала к своим в Москву. А в Москве все та же нужда, да нужда, и все только и живы, что поталеевскими подаяниями. Поталеев ездит, останавливается и благодетельствует. Проходит год, другой, Лета все вдовеет. Вот Поталеев ей и делает вновь предложение. Лета только усмехнулась. А Поталеев и говорит:
— Что это значит? Как я должен понимать вашу улыбку?
— Да ведь мне вам отказать нельзя, — отвечает Лета, — вы всем нам помогали... да... вы моего Сашу любили...
— Именно-с любил.
Лета повесила голову и проговорила:
— Саша мой, научи меня, что я сделаю, чтобы быть достойною тебя?
И с этим она вдруг вздрогнула, как будто кого увидала, и рука ее, точно брошенная чужою рукой, упала в руку Поталеева.
— Иду! — прошептала она, — вы меня купили! — Да, так-с и вышла за Поталеева и стала госпожой Поталеевой, да тем и самого Поталеева перепугала.
Он жил с нею не радовался, а плакал, да служил панихиды по Спиридонове и говорил: «Как могло это статься! Нет, с ним нельзя бороться, он мертвый побеждает».
— Летушка! Лета! — допрашивал он жену, — кто же он был для вас? Где же тот ваш проступок, о котором вы девушкой сказали в Москве?
— Старину вспомнил! Напрасно тогда не женился на ней, на девушке? — вставил Висленев.
— Нет-с, дело-то именно в том, что он женился на девушке-с! — ответил с ударением Водопьянов. — Скоро Лета нагнала ужас на весь деревенский дом своего второго мужа: она все ходила, ломала руки, искала и шептала: «Саша! Пустите меня к Саше!» Есть у Летушки кофточки шитые и шубки дорогие, всего много, но ничего ее не тешит. Ночью встанет, сидит на постели и шепчет: «Здравствуй, милый мой, здравствуй!» Поталеев не знает, что и делать! Прошло так с год. Вот и съехались раз к Поталееву званые гости. Летушку к ним, разумеется, не выпустили, но она вдруг является и всем кланяется. «Здравствуйте, — говорит, — не видали ли вы моего Сашу?»
Гости, понятно, смутились.
— Впрочем, Саша идет уж, идет, идет, — лепетала, тоскуя, Лета.
— Поди к себе наверх! — сказал ей строго муж, но она отворотилась от него и, подойдя к одному старому гостю, который в это время нюхал табак, говорит:
— Дайте табаку!
Тот ей подал.
— Вы богаты?
— Богат, — отвечает гость.
— Так купите себе жену и...
— Но нет-с, — заключил рассказчик, — я эту последнюю сцену должен пояснить вам примером.
При этом Водопьянов встал, вынул из бокового кармана большую четырехугольную табакерку красноватого золота и сказал: «Это было так: она стояла, как я теперь стою, а гости от нее в таком же расстоянии, как вы от меня. Поталеев, который хотел взять ее за руку, был ближе всех, вот как от меня г. Висленев. Старик гость держал в руке открытую табакерку... Теперь Лета смотрит туда... в окно... там ничего не видно, кроме неба, потому что это было наверху в павильоне. Ровно ничего не видно. Смотрите, Лариса Платоновна, вон туда... в темную дверь гостиной... Вы не боитесь глядеть в темноту? Есть люди, которые этого боятся, оно немножко и понятно... Впрочем, вы ничего не видите?
— Ничего не вижу, — отвечала, улыбаясь, Лариса.
— Она точно так же ничего не видала, и вдруг Лета рукой щелк по руке старика, — и с этим Сумасшедший Бедуин неожиданно ударил Висленева по руке, в которой была табакерка, табак взлетел; все, кроме отворотившейся Ларисы, невольно закрыли глаза. Водопьянов же в эту минуту пронзительно свистнул и сумасшедшим голосом крикнул: «Сюда, малютка! здесь Испанский Дворянин!» — и с этим он сверкнул на Ларису безумными глазами, сорвал ее за руку с места и бросил к раскрытой двери, на пороге которой стоял Подозеров.
Лариса задрожала и бросилась опрометью вон, а Водопьянов спокойно закончил:
— Вот как все это было! — и с этим вышел в гостиную, оттуда на балкон и исчез в саду. Глава шестая. Не перед добром.
Андрей Иванович Подозеров, войдя чрез балкон и застав все общество в наугольной Бодростинского дома, среди общего беспорядочного и непонятного движения, произведенного табаком Сумасшедшего Бедуина, довольно долгое время ничего не мог понять, что здесь случилось. Лариса кинулась к нему на самом пороге и убежала назад с воплем и испугом. Горданов, Висленев и Бодростина, в разных позах, терли себе глаза, и из них Горданов делал это спокойно, вытираясь белым фуляром, Висленев вертелся и бранился, а Бодростина хохотала.
— Это черт знает что! — воскликнул Висленев, первый открыв глаза, и, увидев Подозерова, тотчас же отступил назад.
— Я вам говорила, что покажу вам настоящий антик, — заметила Бодростина, — надеюсь, вы не скажете, что я вас обманула, — и с этим она тоже открыла глаза и, увидав гостя, воскликнула: — Кого я вижу, Андрей Иваныч! Давно ли?
— Я только вошел, — отвечал Подозеров, подавая ей руку и сухо кланяясь Висленеву и Горданову, который при этом сию же минуту встал и вышел в другую комнату.
— Вы видели, в каком мы были положении? Это «Сумасшедший Бедуин» все рассказывал нам какую-то историю и в заключение засыпал нас табаком. Но где же он? Где Водопьянов?
— Черт его знает, он куда-то ушел! — отвечал Висленев.
— Ах, сделайте милость, найдите его, а то он, пожалуй, исчезнет. — Прекрасно бы сделал.
— Ну, нет: я расположена его дослушать, история не кончена, и я прошу вас найти его и удержать.
Висленев пожал плечами и вышел.
— Стареюсь, Андрей Иванович, и начинаю чувствовать влечение к мистицизму, — обратилась Бодростина к Подозерову.
— Что делать? платить когда-нибудь дань удивления неразрешимым тайнам — удел почти всеобщий.
— Да; но Бот с ними, эти тайны, они не уйдут, между тем как vous devenez rare comme le beau jour 1. Мы с вами ведь не видались сто лет и сто зим!
— Да; почти не видались все лето.
— Почти! по-вашему, это, верно, очень мало, а по-моему, очень много. Впрочем, счеты в сторону: je suis ravie 2, что вас вижу, — и с этим Бодростина протянула Подозерову руку.
— Я думала или, лучше скажу, я была даже уверена, что мы с вами более уже не увидимся в нашем доме, и это мне было очень тяжело, но вы, конечно, и тогда были бы как нельзя более правы. Да! обидели человека, наврали на него с три короба и еще ему же реприманды едут делать. Я была возмущена за вас до глубины души, и зато из той же глубины вызываю искреннюю вам признательность, что вы ко мне приехали.
Она опять протянула ему свою руку и, удерживая в своей руке руку Подозерова, продолжала:
— Вы вознаградили меня этим за многое.
— Я вознагражден уж больше меры этими словами, которые слышу, но, — добавил он, оглянувшись, — я здесь у вас по делу.
— Без но, без но: вы сегодня мой милый гость, — добавила она, лаская его своими бархатными глазами, — а я, конечно, буду не милою хозяйкой и овладею вами. — Она порывисто двинулась вперед и, встав с места, сказала, — я боюсь, что Висленев лукавит и не пойдет искать моего Бедуина. Дайте мне вашу руку и пройдемтесь по парку, он должен быть там.
В это время Бодростина, случайно оборотясь, заметила мелькнувшую в коридоре юбку Ларисиного платья, но не обратила на это, по-видимому, никакого внимания.
— У меня по-деревенски ранний ужин, но не ранняя ночь: хлеб-соль никогда не мешает, а сон, как и смерть, моя антипатия. Но вы, мне кажется, намерены молчать... как сон, который я припомнила. Если так, я буду смерть.
— Вы смерть!.. Полноте, Бога ради!
— А что?
— Вы жизнь!
— Нет, смерть! Но вы меня не бойтесь: я — смерть легкая, с прекрасными виденьями, с экстазом жизни. Дайте вашу руку, идем.
С этим она облокотилась на руку гостя и пошла с ним своею бойкою развалистою походкой чрез гостиную в зал. Здесь она остановилась на одну минуту и отдала дворецкому приказание накрыть стол в маленькой портретной.
— Мы будем ужинать en petite comite 3, — сказала она, и, держа под руку Подозерова, вернулась с ним в большую темную гостиную, откуда был выход на просторный, полукруглый балкон с двумя лестницами, спускавшимися в парк. В наугольной опять мелькнуло платье Ларисы.
— Ах, ecoute, дружочек Лара! — позвала ее Бодростина, — j'ai un petit mot a vous dire 4; у меня разболелась немножко голова и мы пройдемся по парку, а ты, пожалуйста, похозяйничай, и если где-нибудь покажется Водопьянов, удержи его, чтоб он не исчез. Он очень забавен. Allons 5, — дернула она Подозерова и, круто поворотив назад, быстрыми шагами сбежала с ним по лестнице и скрылась в темноте парка.
1 Вы появляетесь так же редко, как ясный день (фр.).
2 Я в восторге (фр.).
3 В тесном кругу (фр.).
4 Послушайте... мне нужно сказать вам словечко (фр.).
5 Пойдемте (Фр.).
Лариса все это видела и была этим поражена. Эта решительность и смелость приема ее смущала, и вовсе незнакомое ей до сих пор чувство по отношению к Подозерову щипнуло ее за сердце; это чувство было ревность. Он принадлежал ей, он ее давний рыцарь, он был ее жених, которому она, правда, отказала, но... зачем же он с Бодростиной?.. И так явно. В Ларисе заиграла «собака и ее тень». Притом ей стало вдруг страшно; она никогда не гостила так долго у Бодростиной; ее выгнали сюда домашние нелады с теткой, и теперь ей казалось, что она где-то в плену, в злом плену. Собственный дом ей представлялся давно покинутым раем, в который уже нельзя вернуться, и бедная девушка, прислонясь лбом к холодному стеклу окна, с замирающим сердцем думала: пусть вернется Подозеров, и я скажу ему, чтоб он взял меня с собой, и уеду в город.
— Где вы и с кем вы? — произнес в это мгновение за нею тихий и вкрадчивый голос.
Она вздрогнула и, обернувшись, увидала пред собою Горданова.
— Вы меня, кажется, избегаете? — говорил он, ловко заступая ей дорогу собою и стулом, который взял за спинку и наклонил пред Ларисой.
— Нимало, — отвечала Лариса, но голос ее обличал сильное беспокойство; она жалась всем телом, высматривая какой-нибудь выход из-за устроенной ей баррикады.
— Мне необходимо с вами говорить. После того, что было вчера вечером в парке...
— После того, что было вчера между нами, ни нынче и никогда не может быть ни о чем никакого разговора.
— Оставьте этот тон; я знаю, что вы говорите то, чего не чувствуете. Сделайте милость, ради вас самой, не шутите со мною.
Лариса побледнела и отвечала:
— Оставьте меня, Павел Николаевич, примите стул и дайте мне дорогу.
— А-а! Я вижу, вы в самом деле меня не понимаете!
— Я не желаю вас понимать, пропустите меня или я позову брата! — сказала Лариса.
— Ваш брат волочится за госпожой дома, которая в свою очередь волочится за вашим отставным женихом, но это все равно, оставим их прогуливаться. Мы одни, и я должен вам сказать, что мы должны объясниться...
— Чего же вы требуете от меня? — продолжала Лариса с упреком. — Не стыдно ли вам не давать покоя девушке, которая вас избегает и знать не хочет.
— Нет, тысячу раз нет! вы меня не избегаете, вы лжете.
— Горданов! — воскликнула гневно обиженная Лариса.
— Что вы?.. Я вас не оскорбил: я говорю, что вы лжете самим себе. Не верите? Я представляю на это доказательства. Если бы вы не хотели меня знать, вы бы уехали вчера и не остались на сегодня. Бросьте притворство. Наша встреча — роковая встреча. Нет силы, которая могла бы сдержать страсть, объемлющую все существо мое. Она не может остаться без ответа. Лариса, ты так мне нравишься, что я не могу с тобой расстаться, но и не могу на тебе жениться... Ты должна меня выслушать!
Лариса остолбенела.
Горданов не понял ее и продолжал, что он не может жениться только в течение некоторого времени и опять употребил слово «ты». Лариса этого не вынесла:
— «Ты!» — произнесла она, вся вспыхнув, и, рванувшись вперед, прошептала задыхаясь: — пустите! — Но одна рука Горданова крепко сжала ее руку, а другая обвила ее стан.
— Ты спрашиваешь, что хочу я от тебя: тебя самой!
— Нет, нет! — отрицала с закрытым лицом Лариса. — Но Бога ради! Как милости, как благодеяния, прощу вас: прекратите эту сцену. Умоляю вас: не обнимайте же меня по крайней мере, не обнимайте, я вам говорю! Все двери отперты...
— Вы мне смешны... дверей боитесь! — ответил Горданов и, сжав Ларису, хотел поцеловать ее.
Но в эту же минуту чья-то сильная рука откинула его в сторону. Он даже не мог вдруг сообразить, как это случилось, и понял все только, оглянувшись назад и видя пред собою Подозерова.
— Послушайте! — прошипел Горданов, глядя в горящие глаза Андрея Ивановича. — Вы знаете, с кем шутите?
— Во всяком случае с мерзавцем, — спокойно молвил Подозеров.
Лариса вскрикнула и, пользуясь суматохой, убежала.
— Вы это смеете сказать? — подступал Горданов.
— Смею ли я?
— Вы знаете?.. вы знаете!.. — шептал Горданов.
— Что вы подлец? о, давно знаю, — произнес Подозеров.
— Это вам не пройдет так. Я не кто-нибудь... Я...
— Прах, ходящий на двух лапках! — произнес за ним голос Водопьянова, и колоссальная фигура Сумасшедшего Бедуина стала между противниками с распростертыми руками. Подозеров повернулся и вышел.
Павел Николаевич постоял с минуту, закусив губу. Фонды его заколебались в его дальновидном воображении.
«Скандал! во всяком разе гадость... Дуэль... пошлое и опасное средство... Отказаться, как это делают в Петербурге... но здесь не Петербург, и прослывешь трусом... Что же делать? Неужто принимать... дуэль на равных шансах для обоих?.. нет; я разочтусь иначе», — решил Горданов.
Глава седьмая. Краснеют стены.
Богато сервированный ужин был накрыт в небольшой квадратной зале, оклеенной красными обоями и драпированной красным штофом, меж которыми висели старые портреты.
Глафира Васильевна стояла здесь у небольшого стола, и когда вошли Водопьянов и Подозеров, она держала в руках рюмку вина.
— Господа! у меня прошу пить и есть, потому что, как это, Светозар Владенович, пел ваш Испанский Дворянин: «Вино на радость нам дано». Андрей Иваныч и вы, Водопьянов, выпейте пред ужином — вы будете интереснее.
— Я не могу, я уже все свое выпил, — отвечал Водопьянов.
— Когда же это вы выпили, что этого никто не видал?
— Семь лет тому назад.
— Все лжет сей дивный человек, — отвечала Бодростина и, окинув внимательным взглядом вошедшего в это время Горданова, продолжала: — я уверена, Водопьянов, что это вам ваш Распайль запрещает. Ему Распайль запрещает все, кроме камфоры, — он ест камфору, курит камфору, ароматизируется камфорой.
— Прекрасный, чистый запах, — молвил Водопьянов.
— Поздравляю вас с ним и сажусь от вас подальше. А где же Лариса Платоновна?
— Они изволили велеть сказать, что нездоровы и к столу не будут, — ответил дворецкий.
— Все это виноват этот Светозар! Он всех напугал своим Испанским Дворянином. Подозеров, вы слышали его рассказ?
— Нет, не слыхал.
— Ну да; вы к нам попали на финал, а впрочем, ведь рассказ, мне кажется, ничем не кончен, или он, как все, как сам Водопьянов, вечен и бесконечен. Лета выбила табакерку и засыпала нам глаза, а дальше что же было, я желаю знать это, Светозар Владенович?
— Она спрыгнула с окна.
— С третьего этажа?
— Да.
— Но кто же ей кричал: «Я здесь»?
— Испанский Дворянин.
— Кто ж это знает?
— Она.
— Она разве осталась жива?
— Нет, иль то есть...
— То есть она жива, но умерла. Это прекрасно. Но кто же видел вашего Испанского Дворянина?
— Все видели: он веялся в тумане над убитой Летой, и было следствие.
— И что же оказалось?
— Ничего.
— Je vous fais mon compliment [Поздравляю вас (фр.)]. Вы, Светозар Владенович, неподражаемы! Вообразите себе, — добавила она, обратясь к Подозерову: — целый битый час рассказывал какую-то историю или бред, и только для того, чтобы в конце концов сказать «ничего». Очаровательный Светозар Владенович, я пью за ваше здоровье и за вечную жизнь вашего Дворянина. Но Боже! Что такое значит? чего вы вдруг так побледнели, Андрей Иванович?
— Я побледнел? — переспросил Подозеров. — Не знаю, быть может, я еще немножко слаб после болезни... Я, впрочем, все слышал, что говорили... какая-то женщина упала...
— Бросилась с третьего этажа!
— Да, это мне напоминает немножко... кончину...
— Другой прекрасной женщины, конечно?
— Да, именно прекрасной, но... которую я мало знал, ко всегдашнему моему прискорбию, — так умерла моя мать, когда мне был один год от роду.
Бодростина выразила большое сожаление, что она, не зная семейной тайны гостя, упомянула о случае, который навел его на печальные воспоминания.
— Но, впрочем, — продолжала она, — я поспешу успокоить вас хоть тем способом, к которому прибег один известный испанский же проповедник, когда слишком растрогал своих слушателей. Он сказал им: «Не плачьте, милые, ведь это было давно, а может быть, это было и не так, а может быть... даже, что этого и совсем не было». Вспомните одно, что ведь эту историю рассказывал нам Светозар Владенович, а его рассказы, при несомненной правдивости их автора, сплошь и рядом бывают подбиты... ветром. Притом здесь есть имена, которые вам, я думаю, даже и незнакомы, — и Бодростина назвала в точности всех лиц водопьяновского рассказа и в коротких словах привела все повествование Сумасшедшего Бедуина.
— Ничего, кажется, не пропустила? — обратилась она затем к Водопьянову и, получив от него утвердительный ответ, добавила: — вот вы приезжайте ко мне почаще; я у вас буду учиться духов вызывать, а вы у меня поучитесь коротко рассказывать. Впрочем, a propos [Кстати (фр.)], ведь сказание повествует, что эта бесплотная и непостижимая Лета умерла бездетною.
— Я этого не говорил, — отвечал Водопьянов.
— Как же? Разве у нее были дети, или хоть по крайней мере одно дитя?
— Может быть, может быть, и были.
— Так что же вы этого не говорите?
— А!.. да!.. Понял: Труссо говорит, что эпилепсия — болезнь весьма распространенная, что нет почти ни одного человека, который бы не был подвержен некоторым ее припадкам, в известной степени, разумеется; в известной степени... Сюда относится внезапная забывчивость и прочее, и прочее... Разумеется, это падучая болезнь настолько же, насколько кошка родня льву, но однако...
— Но, однако, Светозар Владенович, довольно, мы поняли, что вы хотите сказать: на вас нашло беспамятство.
— Именно: у Летушки был сын.
— От ее брака с красавцем Поталеевым?
— Конечно.
— Но что было у господ Поталеевых, то пусть там и останется, и это ни до кого из здесь присутствующих не касается... Андрей Иванович, чего же вы опять все бледнеете?
— Я попросил бы позволения встать: я слаб еще; но впрочем... виноват, я оправлюсь. Позвольте мне рюмку вина! — обратился он к Водопьянову.
— Хересу?
— Да.
— Да; вы его пейте, — это ваше вино!
— А чтобы перейти от чудесного к тому, что веселей и более способно всех занять, рассудим вашу Лету, — молвила Водопьянову Бодростина, и затем, относясь ко всей компании, сказала: — Господа! какое ваше мнение: по-моему, этот Испанский Дворянин — буфон и забулдыга старого университетского закала, когда думали, что хороший человек непременно должен быть и хороший пьяница; а его Лета просто дура, и притом еще неестественная дура. Ваше мнение, Подозеров, первое желаю знать?
— Я промолчу.
— И это вам разрешаю. Я очень рада, что вино вас, кажется, согрело; вы закраснелись.
Подозеров даже был теперь совсем красен, но в этой комнате было все красновато и потому его краснота сильно не выделялась.
— По-моему, — продолжала Бодростина, — самое типичное, верное и самое понятное мне лицо во всем этом рассказе — старик Поталеев. В нем нет ничего натянуто-выспренного и болезненно-мистического, это человек с плотью и кровью, со страстями и... некрасив немножко, так что даже бабы его пугались. Но эта Летушка все-таки глупа; многие бы позавидовали ее счастию, хотя ненадолго, но...
— Что ж вам так нравится? Неужто безобразие? — спросил, чтобы поддержать разговор, Висленев.
— Ах, Боже мой, а что мужчинам нравится в какой-нибудь Коре, которой я не имела чести видеть, но о которой имею понятие по тургеневскому «Дыму». Он интереснее: в нем есть и безобразие, и характер.
Гости промолчали.
— Интересно врачу заставить говорить немого от рождения, еще интереснее женщине слышать язык страсти в устах, которые весь век боялись их произносить.
Глафире опять никто не ответил, и она, хлебнув вина, продолжала сама:
— Признаюсь, я бы хотела видеть рыдающего от страсти... отшельника, монаха, настоящего монаха... И как бы он после, бедняжка, ревновал. Эй, человек! подайте мне еще немножко рыбы. Однажды я смутила схимника: был в Киеве такой старик, лет неизвестных, мохом весь оброс и на груди носил вериги, я пошла к нему на исповедь и насказала ему таких грехов, что он...
— Влюбился в вас?
— Нет; только просил: «умилосердися, уйди!» Благодарю, подайте вон еще Висленеву, он, вижу, хочет кушать, — докончила она обращением к старому, седому лакею, державшему пред ней массивное блюдо с приготовленною под майонезом рыбой.
— Подозеров! Ведь мы с вами, кажется, пили когда-то на брудершафт?
— Никогда.
— Так я пью теперь.
И с этим она чокнулась бокал о бокал с Подозеровым и, положив руку на его руку, заставила и его выпить все вино до дна.
Висленева скрючило.
— Да; новый мой камрад, — продолжала Бодростина, — пожелаем счастия честным мужчинам и умным женщинам. Да соединятся эти редкости жизни и да не мешаются с тем, что им не к масти. Ум дает жизнь всему, и поцелую, и объятьям... дурочка даже не поцелует так, как умная.
— Глафира Васильевна! — перебил ее Подозеров. — То дело, о котором я сказал... теперь мне некогда уже о нем лично говорить. Я болен и должен раньше лечь в постель... но вот в чем это заключается. — Он вынул из кармана конверт с почтовым штемпелем и с разорванными печатями и сказал: — Я просил бы вас выйти на минуту и прочесть это письмо.
— Я это для тебя сделаю, — отвечала, вставая, Бодростина. — Но что это такое? — добавила она, остановясь в дверях: — я вижу, что фонарик у меня в кабинете гаснет, а я после рассказов Водопьянова боюсь одна ходить в полутьме. Висленев! возьмите лампу и посветите мне.
Иосаф Платонович вскочил и побежал за нею с лампой.
Горданов воспользовался временем, когда он остался один с Подозеровым и Водопьяновым.
— Вы, конечно, знаете, чем должно кончиться то, что произошло два часа тому назад между нами? — спросил он, уставясь глазами в вертевшего свою тарелку Подозерова.
— Я знаю, чем такие вещи кончаются между честными людьми, но чем их кончают люди бесчестные, — того не знаю, — отвечал Подозеров.
— Кого вы можете прислать ко мне завтра?
— Завтра? Майора Форова.
— Прекрасно: у меня секундант Висленев.
— Это не мое дело, — отвечал Подозеров и, встав, отвернулся к первому попавшемуся в глаза портрету.
В это время в отдаленном кабинете Бодростиной раздался звон разбившейся лампы и послышался раскат беспечнейшего смеха Глафиры Васильевны.
Горданов вскочил и побежал на этот шум.
Подозеров только оборотился и из глаза в глаз переглянулся с Водопьяновым.
— Место значит много; очень много, много! Что в другом случае ничего, то здесь небезопасно, — проговорил Водопьянов.
— Скажите мне, зачем же вы здесь, в этих стенах, и при всех этих людях рассказали историю моей бедной матери?
— Вашей матери? Ах, да, да... я теперь вижу... я вижу: у вас есть с ней сходство и... еще больше с ним.
— Валентина была моя мать, и я люблю того, кого она любила, хотя он не был мой отец; но мне все говорили, что я даже похож на того, кого вы назвали студентом Спиридоновым. Благодарю, что вы, по крайней мере, переменили имена.
Водопьянов с неожиданною важностью кивнул ему головой и отвечал: — «да; мы это рассмотрим; — вы будьте покойны, рассмотрим». Так говорил долго тот, кого я назвал Поталеевым. Он умер... он приходил ко мне раз... таким черным зверем... Первый раз он пришел ко мне в сумерки... и плакал, и стонал... Я одобряю, что вы отдали его состоянье его родным... большим дворянам... Им много нужно... Да вон видите... по стенам... сколько их... Вон старушка, зачем у нее два носа... у нее было две совести...
И Водопьянов понес околесицу, в которой все-таки опять были свои, все связывающие штрихи.
Между тем, что же такое произошло в кабинете Глафиры Васильевны, откуда так долго нет никого и никаких вестей?
Глава восьмая. Не краснеющие.
Глафира Васильевна в сопровождении Висленева скорою походкой прошла две гостиных, библиотеку, наугольную и вступила в свой кабинет. Здесь Висленев поставил лампу и, не отнимая от нее своей руки, стал у стола. Бодростина стояла спиной к нему, но, однако, так, что он не мог ничего видеть в листке, который она пред собою развернула. Это было письмо из Петербурга, и вот что в нем было написано, гадостным каракульным почерком, со множеством чернильных пятен, помарок и недописок:
«Господин Подозеров! Я убедилась, что хотя вы держитесь принципов неодобрительных и патриот, и низкопоклонничаете пред московскими ретроградами, но в действительности вы человек и, как я убедилась, даже честнее многих абсолютно честных, у которых одно на словах, а другое на деле, потому я с вами хочу быть откровенна. Я пишу вам о страшной подлости, которая должна быть доведена до Бодростиной. Мерзавец Кишенский, который, как вы знаете, ужасный подлец и его, надеюсь, вам не надо много рекомендовать, и Алинка, которая женила на себе эту зеленую лошадь, господина Висленева, устроили страшную подлость: Кишенский, познакомясь с Бодростиным у какого-то жида-банкира, сделал такую подлую вещь: он вовлекает Бодростина в компанию по водоснабжению городов особенным способом, который есть не что иное, как отвратительнейшее мошенничество и подлость. Делом этим орудует какой-то страшный мошенник и плут, обобравший уже здесь и в Москве не одного человека, что и можно доказать. С ним в стачке полька Казимирка, которую вы должны знать, и Бодростина ее тоже знает...»
— Ох, ох! — сказала, пятясь назад и покрываясь румянцем восторга, Бодростина.
— Что? верно, какие-нибудь неприятные известия? — спросил ее участливо Висленев.
— Боюсь в обморок упасть, — ответила шутя Глафира, чувствуя, что Висленев робко и нерешительно берет ее за талию и поддерживает. — «Держи ж меня, я вырваться не смею!» — добавила она, смеясь, известный стих из Дон-Жуана.
И с этим Глафира, оставаясь на руке Иосафа Платоновича, дочитала:
— «Эта Казимира теперь княгиня Вахтерминская. Она считается красавицей, хотя я этого не нахожу: сарматская, смазливая рожица и телеса, и ни чего больше, но она ловка как бес и готова для своей прибыли на всякие подлости. Муж ей давал много денег, но теперь он банкрот: одна француженка обобрала его как липку, и Казимира приехала теперь назад в Россию поправлять свои делишки. У нее теперь есть bien aime [Возлюбленный (фр.)], что всем известно, — поляк-скрипач, который играет и будет давать концерты, потому полякам все дозволяют, но он совершенно бедный и потому она забрала себе Бодростина с первой же встречи у Кишенского и Висленевой жены, которая Бодростиной терпеть не может. Я же, хотя тоже была против принципов Бодростиной, когда она выходила замуж, но как теперь это все уже переменилось и все наши, кроме Ванскок, выходят за разных мужей замуж, то я более против Глафиры Бодростиной ничего не имею, и вы ей это скажите; но писать ей сама не хочу, потому что не знаю ее адреса, и как она на меня зла и знает мою руку, то может не распечатать, а вы как служите, то я пишу вам по роду вашей службы. Предупредите Глафиру, что ей грозит большая опасность, что муж ее очень легко может потерять все, и она будет ни с чем, — я это знаю наверное, потому что немножко понимаю по-польски и подслушала, как Казимира сказала это своему bien aime, что она этого господина Бодростина разорит, и они это исполняют, потому что этот bien aime самый главный зачинщик в этом деле водоснабжения, но все они, Кишенский и Алинка, и Казимира, всех нас от себя отсунули и делают все страшные подлости одни сами, все только жиды да поляки, которым в России лафа. Больше ничего не остается, как всю эту мерзость разоблачить и пропечатать, над чем и я и еще многие думаем скоро работать и издать в виде большого романа или драмы, но только нужны деньги и осторожность, потому что Ванскок сильно вооружается, чтобы не выдавать никого. Остаюсь готова к услугам известная вам Ципри-Кипри».
«P. S. Можете спросить Данку, которая знает, что я пишу вам это письмо: она очень честная госпожа и все знает, — вы ее помните: белая и очень красивая барыня в русском вкусе, потому что план Кишенского прежде был рассчитан на нее, но Казимира все это перестроила самыми пошлыми польскими интригами. Данка ничего не скроет и все скажет».
«Еще P. S. Сейчас ко мне пришла Ванскок и сообщила свежую новость. Бодростин ничего не знает, что под его руку пишут уже большие векселя по его доверенности. Пускай жена его едет сейчас сюда накрыть эту страшную подлость, а если что нужно разведать и сообщить, то я могу, но на это нужны, разумеется, средства, по крайней мере рублей пятьдесят или семьдесят пять, и чтобы этого не знала Ванскок».
Этим и оканчивалось знаменательное письмо гражданки Ципри-Кипри.
Бодростина, свернув листок и суя его в карман, толкнулась рукой об руку.
Висленева и вспомнила, что она еще до сих пор некоторым образом находится в его объятиях.
Занятая тем, что сейчас прочитала, она бесцельно взглянула полуоборотом лица на Висленева и остановилась; взгляд ее вдруг сверкнул и заискрился.
«Это прекрасно! — мелькнуло в ее голове. — Какая блестящая мысль! Какое великое счастие! О, никто, никто на свете, ни один мудрец и ни один доброжелатель не мог бы мне оказать такой неоцененной услуги, какую оказывают Кишенский и княгиня Казимира!.. Теперь я снова я, — я спасена и госпожа положения... Да!»
— Да! — произнесла она вслух, продолжая в уме свой план и под влиянием дум пристально глядя в глаза Висленеву, который смешался и залепетал что-то вроде упрека.
— Ну, ну, да, да! — повторяла с расстановками, держась за голову Бодростина и, с этим бросясь на отоман, разразилась неудержимым истерическим хохотом.
Увлеченный ею в этом движении, Висленев задел рукой за лампу и в комнате настала тьма, а черепки стекла зазвенели по полу. На эту сцену явился Горданов: он застал Бодростину, весело смеющуюся, на диване и Висленева, собирающего по полу черепки лампы.
— Что такое здесь у вас случилось?
— Это все он, все он! — отвечала сквозь смех Бодростина, показывая на Висленева.
— Я!.. я! При чем здесь я? — вскочил Иосаф Платонович.
— Вы?.. вы ни при чем! Идите в мою уборную и принесите оттуда лампу!
Иосаф Платонович побежал исполнить приказание.
— Что это такое было у вас с Подозеровым? — спросила у Горданова Глафира, став пред ним, как только вышел за двери Висленев.
— Ровно ничего.
— Неправда, я кой-что слышала: у вас будет дуэль.
— Отнюдь нет.
— Отнюдь нет! Ага!
Висленев появился с лампой, и вдвоем с Гордановым стал исправлять нарушенный на столе порядок, а Глафира Васильевна, не теряя минуты, вошла к себе в комнату и, достав из туалетного ящика две радужные ассигнации, подала их горничной, с приказанием отправить эти деньги завтра в Петербург, без всякого письма, по адресу, который Бодростина наскоро выписала из письма Ципри-Кипри.
— Затем, послушай, Настя, — добавила она, остановив девушку. — Ты в черном платье... это хорошо... Ночь очень темна?
— Не видно зги, сударыня, и тучится-с.
— Прекрасно, — сходи, пожалуйста, на мельницу... и... Ты знаешь, как пускают шлюз? Это легко.
— Попробую-с.
— Возьмись рукой за ручку на валу и поверни. Это совсем не трудно, и упусти заслонку по реке; или забрось ее в крапиву, а потом беги домой чрез березник... Понимаешь?
— Все будет сделано-с.
— И это нужно скоро.
— Сию же минуту иду-с.
— Беги, и платья черного нигде не поднимай, чтобы не сверкали белые юбки.
— Сударыня, ужели первый раз ходить?
— Ну да, иди же и все сделай.
И Бодростина из этой комнаты перешла к запертым дверям Ларисы.
— Прости меня, chere Глафира; я очень разнемоглась и была не в силах выйти к столу, — начала Лариса, открыв дверь Глафире Васильевне.
— Все знаю, знаю; но надо быть девушкой, а не ребенком: ты понимаешь, что может случиться?
— Дуэль?
— А конечно!
— Но, Боже, что я могу сделать?
— Прежде всею не ломать руки, а обтереть лицо водой и выйти. Одно твое появление его немножко успокоит.
— Кого его?
— Его, кого ты хочешь.
— Но я ведь не могу идти, Глафира.
— Ты должна.
— Помилуй, я шатаюсь на ногах.
— Я поддержу.
И Глафира Васильевна еще привела несколько доказательств, убедивших Ларису в том, что она должна преодолеть себя и выйти вниз к гостям.
Лара подумала и стала обтирать заплаканное лицо, сначала водой, а потом пудрой, между тем как Бодростина, поджидая ее, ходила все это время взад и вперед по ее комнате; и наконец проговорила:
— Ах, красота, красота, сколько из-за нее делается безобразия!
— Я проклинаю ее... мою красоту, — отвечала, наскоро вытираясь пред зеркалом, Лариса.
— Проклинай или благословляй, это все равно; она наружи и внушает чувство.
— Чувство! Глафира, разве же это чувство?
— Любовь!.. А это что же такое, как не чувство? Страсть, «влеченье, род недуга».
— Любовь! так ты это даже называешь любовью! Нет; это не любовь, а разве зверство.
— Мужчины всегда так: что наше, то нам не нужно, а что оспорено, за то сейчас и в драку. Однако идем к ним, Лара!
— Идем; я готова, но, — добавила она на ходу, держась за руку Бодростиной: — я все-таки того мнения, что есть на свете люди, которые относятся иначе...
— То есть как это иначе?
— Я не могу сказать как... но иначе!
— «Эх ты бедный, бедный межеумок! — думала Бодростина. — Ей в руки дается не человек, а клад: с душой, с умом и с преданностью, а ей нужно она сама не знает чего. Нет; на этот счет стрижки были вас умнее. А впрочем, это прекрасно: пусть ее занята Гордановым... Не может же он на ней жениться... А если?.. Да нет, не может!»
В это время они дошли до дверей портретной, и Бодростина, представив гостям Ларису, сказала, что вместо исчезнувшей лампы является живой, всеосвежающий свет.
— Светильник без масла долго не горит? — спросила она шепотом Подозерова, садясь возле него на свое прежнее место. Советую помнить, что я сказала: и в поцелуях, и в объятиях ум имеет великое значение! А теперь, господа, — добавила она громко, — пьем за здоровье того, кто за кого хочет, и простите за плохой ужин, каким я вас накормила.
Стол кончился: и Горданов тотчас же исчез. Бодростина зорко посмотрела ему вслед и велела человеку подать на балкон садовую свечу.
— Немножко нужно освежиться. Ночь темная, но тепла и ароматна... Ею надо пользоваться, скоро уже завоет вьюга и польют дожди.
Подозеров стал прощаться.
— Постойте же; сейчас вам запрягут карету.
— Нет, Бога ради, не нужно: я люблю ходить пешком: здесь так близко, я скоро хожу.
Но Бодростина так твердо настояла на своем, что Подозеров должен был согласиться и остался ждать кареты.
— А я в одну минуту возвращусь, — молвила она и ушла с балкона.
Лариса, тотчас как только осталась одна с Подозеровым, взяла его за руку и шепнула:
— Бога ради, зовите меня с собою.
— Это неловко, — отвечал Подозеров.
— Но вы не знаете...
— Все знаю: вам не будет угрожать ничто, идите спать, заприте дверь и не вынимайте ключа, а завтра уезжайте. Идите же, идите!
— Ведь я не виновата...
— Верю, знаю; идите спать!
— Поверьте мне: все прошлое...
— Все прошлое не существует более, оно погребено и крест над ним поставлен. Я совладал с собою, не бойтесь за меня: я вылечен я более не захвораю, но дружба моя навсегда последует за вами всюду.
— Погребено... — заговорила было Лариса, но не успела досказать, что хотела.
— Ах, Боже! что это такое? Вы слышите, вдруг хлынула вода! — воскликнула, вбегая в это время на балкон, Глафира Васильевна, и тотчас же послала людей на фабричную плотину, на которой уже замелькали огни и возле них показывались тени.
Человек доложил, что готова карета.
Подозеров простился; Лариса пошла к себе наверх, а Глафира Васильевна, открыв окно в зале, крикнула кучеру:
— На мост теперь идет вода, поезжай через плотину, там люди посветят.
Лошади тронулись, а Бодростина все не отходила от окна, докуда тень кареты не пробежала мимо светящихся на плотине фонарей.
Глава девятая. Под крылом у темной ночи.
Проводив Подозерова, Глафира вернулась на балкон, где застала Водопьянова. Сумасшедший Бедуин теперь совсем не походил на самого себя: он был в старомодном плюшевом картузе, в камлотовой шинели с капюшоном, с камфорной сигареткой во рту и держал в руке большую золотую табакерку. Он махал ею и, делая беспрестанно прыжки на одном месте, весь трясся и бормотал.
Вид Сумасшедшего Бедуина и его кривлянья и беспокойство производили, посреди царствующей темной ночи, самое неприятное впечатление.
Как ни была занята Бодростина своими делами, но эта метаморфоза остановила на себе ее внимание, и она сказала:
— Что вы, Светозар Владенович, — какой странный!
— А?.. что?.. Да, странник... еду, еду, — заговорил он, еще шибче махая в воздухе своим капюшоном. — Скверная планета, скверная: вдруг холодно, вдруг холодно, ух жутко... жутко, жутко... крак! сломано! а другая женщина все поправит, поправит!
— Что это вы такое толкуете себе под нос? Какая другая женщина и что она поправит!
— Все, все... ей все легко. И-и-и-х! И-и-и-х! Прочь, прочь, прочь, вот я тебя табакеркой! Вот!.. — И он действительно замахнулся своей табакеркой и ударил ею несколько раз по своему капюшону, который в это время взвился и махал над его головой. — Видели вы? — заключил он, вдруг остановясь и обращаясь к Бодростиной.
— Что такое надо было видеть?
— А черную птицу с одним крылом? Опять! опять прочь!
И с этими словами Водопьянов опять замахал табакеркой, заскакал по лестнице, спустился по ней и исчез.
Бодростина не обратила на это никакого внимания. Он уже надоел ей, и притом она была слишком занята своими мыслями и стояла около часа возле перил, пока по куртине вдоль акаций не мелькнула какая-то тень с ружьем в руке.
При появлении этой тени Глафира Васильевна тихо шмыгнула за дверь и оттуда произнесла свистящим шепотом:
— Прах на двух лапках!
Тень вздрогнула, остановилась и потом вдруг бросилась бегом вперед; Бодростина же прошла ряд пустых комнат, взошла к себе в спальню, отпустила девушку и осталась одна.
Через полчаса ее не было и здесь, она уже стояла у двери комнаты Павла Николаевича, на противоположном конце дома.
— Поль, отопри! — настойчиво потребовала она, стукнув рукой в дверь.
— Я лег и погасил свечу, — отвечал дрожащим нервным голосом Горданов.
— Ничего, мне надо с тобой поговорить. Довольно сибаритничать: настало время за работу, — заговорила она, переступая порог, меж тем как Горданов зажег свечу и снова юркнул под одеяло. — Я получила важные вести.
И она рассказала ему содержание знакомого нам письма Ципри-Кипри.
— Ты должен ехать немедленно в Петербург.
— Это невозможно, меня там схватят.
— Что бы ни было, я тебя выручу.
— И что же я должен там делать?
— Способствовать всем плутням, но не допускать ничего крупного, а, главное, передать моего старика совсем в руки Казимиры. Ты едешь? Ты должен ехать. Я дам тебе денег. Иначе... ты свободен делать что хочешь.
— Хорошо, я поеду.
— И это лучше для тебя, потому что здесь ты, я вижу, начинаешь портиться и лезешь в омут.
— Я?
— Да, ты. Благодари меня, что твое ружье осталось сегодня заряженным.
— Ага! так это вот откуда ударил живоносный источник?
— Ну да, а ты думал... Но что это такое. On frappe! [Стучат! (фр.)]
Дверь действительно немножко колыхалась.
— Кто там? — окликнула, вскочив, Бодростина.
В эту же секунду дверь быстро отворилась и Глафира столкнулась лицом к лицу с Висленевым.
— Вот видите! — удивилась она.
— Я пришел сюда за спичкой, Глафира Васильевна, — пробормотал Висленев.
— Да, ты удивительно находчив, — заметил ему Горданов, — но дело в том, что вот тебе спички; бери их и отправляйся вон.
— Нет, он пришел сюда довольно кстати: пусть он меня проводит отсюда назад.
И Бодростина поднялась и пошла впереди Висленева.
— Вы по какому же праву меня ревнуете? — спросила она вдруг, нахмурясь и остановись с Иосафом в одной из пустых комнат. — Чего вы на меня смотрите? Не хотите ли отказываться от этого? Можете, но это будет очень глупо? вы пришли, чтобы помешать мне видеться с Гордановым. Да?.. Но вот вам сказ: кто хочет быть любимым женщиной, тот прежде всего должен этого заслужить. А потом... вторая истина заключается в том, что всякая истинная любовь скромна!
— Но чем я не скромен? — молвил, сложив у груди руки, Висленев.
— Вы нескромны. Любить таким образом, как вы меня хотите любить, этак меня всякий полюбит, мне этого рода любовь надоела, и меня ею не возьмете. Понимаете вы, так ничего не возьмете! Хотите любить меня, любите так, как меня никто не любил. Это одно еще мне, может быть, не будет противно: сделайтесь тем, чем я хочу, чтобы вы были.
— Буду, буду. Буду чем вы хотите!
— Тогда и надейтесь.
— Но чем же мне быть?
— Это вам должно быть все равно: будьте тем, чем я захочу вас возле себя видеть. Теперь мне нравятся спириты.
— Вы шутите! Неужто же мне быть спиритом?
— Ага! еще «неужто»! После таких слов решено: это условие, без которого ничто невозможно.
— Но это ведь... это будет не разумно-логичное требование, а каприз.
Бодростина отодвинулась шаг назад и, окинув Висленева с головы до ног сначала строгим, а потом насмешливым взглядом, сказала:
— А если б и так? Если б это и каприз? Так вы еще не знали, что такая женщина, как я, имеет право быть капризною? Так вы, прежде чем что-либо между нами, уже укоряете меня в капризах? Прощайте!
— Нет, Бога ради... позвольте... я буду делать все, что вы хотите.
— Да, конечно, вы должны делать все, что я хочу! Иначе за что же, за что я могу вам позволять надеяться на какое-нибудь мое внимание? Ну сами скажите: за что? что такое вы могли бы мне дать, чего сторицей не дал бы мне всякий другой? Вы сказали: «каприз». Так знайте, что и то, что я с вами здесь говорю, тоже каприз, и его сейчас не будет.
— Нет, Бога ради: я на все согласен.
Она молча взяла его за руку и потянула к себе, Иосаф поднял было лицо.
— Нет, нет, я вас целую пока за послушание в лоб, и только.
— Опять капр... Гм! гм!..
— А разумеется, каприз: неужели что-нибудь другое, — отвечала, уходя в дверь, Бодростина. — Но, — добавила она весело, остановись на минуту на пороге: — женский каприз бывает без границ, и кто этого не знает вовремя, у того женщины под носом запирают двери.
И с этим она исчезла; ключ щелкнул, и Висленев остался один в темноте.
Он подошел к запертой двери, с трудом ощупал замочную ручку и, пошевелив ее, назвал Глафиру, но собственный голос ему показался прегадким-гадким, надтреснутыми севшим, а из-за двери ни гласа, ни послушания. Глафира, очевидно, ушла далее, да и чего ей ждать?
Висленев вздохнул и, заложив назад руки, пошел тихими шагами в свою комнату.
«Все еще не везет, — размышлял он. — Вот, думал, здесь повезет, ан не везет. Не стар же еще я в самом деле! А? Конечно, не стар... Нет, это все коммунки, коммунки проклятые делают: наболтаешься там со стрижеными, вот за длинноволосых и взяться не умеешь! Надо вот что... надо повторить жизнь... Начну-ка я старинные романы читать, а то в самом деле у меня такие манеры, что даже неловко».
Между тем Бодростина, возвратившись в свою комнату, тоже не опочила, села и, начав писать, вдруг ахнула.
— А где же он? Где Водопьянов? Опять исчез! Но теперь ты, мой друг, не уйдешь. Нет, дела мои слагаются превосходно, и спиритизм мне должен сослужить свою службу.
«Светозар Владенович! — написала она через минуту, — чем я более вдумываюсь, тем» и пр., и пр. Одним словом, она с обольстительною простотой открыла Водопьянову, какое влияние на нее имеет спиритская философия, и заключила, что, чувствуя неодолимое влечение к спиритизму, хочет так же откровенно, как он, назвать себя «спириткой».
Все это было сделано немножко грубо и аляповато, — совсем не по-бодростиновски, но стоило ли церемониться с Сумасшедшим Бедуином? Глафира и не церемонилась.
Запечатав это письмо, она отнесла его в комнату своей девушки, положила конверт на стол и велела завтра рано поутру отправить его к Водопьянову, а потом уснула с верой и убеждением, что для умного человека все на свете имеет свою выгодную сторону, все может послужить в пользу, даже и спиритизм, который как крайняя противоположность тех теорий, ради которых она утратила свою репутацию в глазах моралистов, должен возвратить ей эту репутацию с процентами и рекамбио.
Если Горданов с братией и Ципри-Кипри с сестрами давно не упускают слыть не тем, что они на самом деле, то почему же ей этим манкировать? Это было бы просто глупо!
И Глафире представилось ликование, какое будет в известных ей чопорных кружках, которые, несмотря на ее официальное положение, оставались для нее до сих пор закрытым небом, и она уснула, улыбаясь тому, как она вступит в это небо возвратившейся заблуждавшеюся овцой, и как потом... дойдет по этому же небу до своих земных целей.
— Я буду... жена, которой не посмеет даже и касаться подозрение! Я должна сознаться, что это довольно смешно и занимательно!
Лариса провела эту ночь без сна, сидя на своей постели. Утро в бодростинском доме началось поздно: уснувшая на рассвете Лариса проспала, Бодростина тоже, но зато ко вставанью последней ей готов был сюрприз, — ей был доставлен ответ Водопьянова на ее вчерашнее письмо, — ответ, вполне достойный Сумасшедшего Бедуина. Он весь заключался в следующем: «Бобчинский спросил: — можно называться? а Хлестаков отвечал: — пусть называется».
И более не было ничего, ни одного слова, ни подписи.
Бодростина с досадой бросила в ящик письмо и сошла вниз к мужикам, вся в черном, против своего обыкновения.
Между тем, пока дамы спали, а потом делали свой туалет, в сени мужской половины явился оборванный и босоногий крестьянский мальчонко и настойчиво требовал, чтобы длинный чужой барин вышел к кому-то за гуменник.
— Кто же его зовет туда? — добивались слуги.
— А барин с печатью на шляпе дал мне грош; на, говорит, бежи в хоромы и скажи, чтоб он сейчас вышел.
Слуги догадались, что дело идет о Висленеве, и доложили ему об этом. Иосаф Платонович посоветовался с Гордановым и пошел по курьезному вызову на таинственное свидание.
За гуменником его ждал Форов.
— Здравствуйте-с, мы с вами должны уговориться, — начал майор, — Горданов с Подозеровым хотят стреляться, а мы секунданты, так вот мои условия: стреляться завтра, в пять часов утра, за городом, в Коральковском лесу, на горке. Стрелять разом, и при промахах с обеих сторон выстрел повторить. Что, вы против этого ничего?
— Я ничего, но я вообще против дуэли.
— Ну вы об этом статью пошлите, а теперь не ваше дело.
— А вы разве за дуэль?
— Да; я за дуэль, а то очень много подлецов разведется. Так извольте не забыть условия и затем имею честь...
Форов повернулся и ушел.
В доме Бодростиной, к удивлению, никто этого не узнал.
Горданов принял условия Форова и настрого запретил Висленеву выдавать это хоть одним намеком. Тот тотчас струсил.
Утро прошло скучно. Глафира Васильевна говорила о спиритизме и о том, что она Водопьянова уважает, гости зевали. Тотчас после обеда все собрались в город, но Лариса не хотела ехать в свой дом одна с братом и желала, чтоб ее отвезли на хутор к Синтяниной, где была Форова. Для исполнения этого ее желания Глафира Васильевна устроила переезд в город вроде partie de plaisir [Приятной прогулки (фр.)]; они поехали в двух экипажах: Лариса с Бодростиной, а Висленев с Гордановым.
Глава десятая. После скобеля топором.
Увидав себя на дворе генеральши, Лариса в первый раз в жизни почувствовала тот сладостный трепет сердца, который ощущается человеком при встрече с близкими людьми, после того как ему казалось, что он их теряет невозвратно.
Лариса кинулась на шею Александре Ивановне и много раз кряду ее поцеловала; так же точно она встретилась и с теткой Форовой, которая, однако, была с нею притворно холодна и приняла ее ласки очень сухо.
Бодростина была всегда и везде легкой гостьей, никогда не заставлявшею хозяев заботиться о ней, чтоб ей было не скучно. У нее всегда и везде находились собеседники, она могла говорить с кем угодно: с честным человеком и с негодяем, с монахом и комедиантом, с дураком и с умным. Опыт и практические наблюдения убедили Глафиру Васильевну, что на свете все может пригодиться, что нет лишнего звена, которое бы умный человек не мог положить не туда, так сюда, в свое здание. Последняя мысль о спиритизме, который она решилась эксплуатировать для восстановления своей репутации, еще более утвердила ее в том, что все стоит внимания и все пригодно.
Очутясь у Синтяниной, которую Бодростина ненавидела тою ненавистью, какою бессердечные женщины ненавидят женщин строгих правил и открытых честных убеждений, Глафира рассыпалась пред нею в шутливых комплиментах. Она называла Александру Ивановну «русской матроной» и сожалела, что у нее нет детей, потому что она, верно бы, сделалась матерью русских Гракхов.
По поводу отсутствия детей она немножко вольно пошутила, но, заметив, что у генеральши дрогнула бровь, сейчас же обратила речь к Ларисе и воскликнула:
— Да когда же это ты, Лара, выйдешь наконец замуж, чтобы при тебе можно было о чем-нибудь говорить?
Висленев, по обыкновению, расхаживал важною журавлиною походкой и, заложив большие пальцы обеих рук в карманы, остальными медленно и отчетисто ударял себя по панталонам. Говорил он сегодня, против своего обыкновения, очень мало, и все как будто хотел сказать что-то необыкновенное, но только не решался.
Зато Горданов смотрел на всех до наглости смело и видимо порывался к дерзостям. Порывы эти проявлялись в нем так беззастенчиво, что Синтянина на него только глядела и подумывала: «Каково заручился!» От времени до времени он поглядывал на Ларису, как бы желая сказать: смотри, как я раздражен, и это все чрез тебя; я не дорожу никем и сорву свой гнев на ком представится.
Лариса имела вид невыгодный для ее красоты: она выглядывала потерянною и больше молчала. Не такова она была только с одною Форовой. Лариса следила за теткой, и когда Катерина Астафьевна ушла в комнаты, чтобы наливать чай, бедная девушка тихо, с опущенною головкой, последовала за нею и, догнав ее в темных сенях, обняла и поцеловала.
Катерина Астафьевна притворилась, что она сердита и будто даже не заметила этой ласки племянницы.
Лариса села против нее за стол и заговорила о незначительных посторонних предметах. Форова не отвечала.
— Вы, тетя, сегодня здесь ночуете? — наконец спросила Лариса.
— Не знаю-с, как мне Бог по сердцу положит.
— Поедемте лучше домой.
— Куда это? Тебе одна дорога, а мне другая. Вам в Тверь, а нам в дверь.
Лариса встала и, зайдя сзади тетки, поцеловала ее в голову. Она хотела приласкаться, но не умела, — все это у нее выходило как-то неестественно: Форова это почувствовала и сказала:
— Сядь уж лучше, пожалуйста, милая, на место, не строй подлизе?.
У Ларисы больше в запасе ничего не нашлось, она в самом деле села и отвечала только:
— Я думала, что вы, тетя, добрее.
— Как не добрее, ты, верно, думала, что если меня по шее будут гнать, так я буду шею только потолще обертывать. Не сподобилась я еще такого смирения.
— Простите меня, тетечка, если я вас обидела. Я была очень расстроена.
— Чтой-то говорят, ты скоро замуж идешь?
— За кого это?
— За кого же, как не за Гордашку? Нет, а Подозеров, ей-Богу, молодец!
Форова захохотала.
— Ты, верно, думала, что ему уже живого расстанья с тобою не будет, а он раскланялся и был таков: нос наклеил. Вот, на же тебе!.. Люблю таких мужчин до смерти и хвалю.
— И даже хвалите?
— А, разумеется, хвалю! Да что на нас, дур, смотреть, как мы ломаемся? Этого добра везде много, а женишки нынче в сапожках ходят, а особенно хорошие.
Лариса встала и вышла.
— Кусает, барышня, кусает! — промолвила про себя Форова и еще долго продолжала сидеть одна за чайным столом в маленькой передней и посылать гостям стаканы в осинник. Размышлениям ее никто не мешал, кроме девочки, приходившей переменять стаканы.
Но вот по крыльцу послышался шорох юбок, и в комнату скорыми шагами вошла Александра Ивановна.
— Что сделалось с Гордановым! — сказала она, быстро подходя к Форовой. — Представь ты, что он, что ни слово, то старается всем сказать какую-нибудь дерзость!
— И тебе что-нибудь сказал?
— Да, разные намеки. И Бодростиной, и Висленеву. А бедняжка Лара совсем при нем смущена.
— Есть грех.
— Послушайте хоть в шутку.
— Ни в шутку, ни всерьез.
— Вышел из повиновения! Ну так серьезничайте же за наказание.
— Я не серьезничаю, а не хочу падать.
— Не велика беда.
— Да, кому падать за обычай, тому действительно не штука и еще один лишний раз упасть.
Бодростина сделала вид, что не слыхала этих слов, побежала с Форовым, но майор все слышал и немножко покосился.
— Послушайте-ка, — сказал он, улучив минуту, Синтяниной. — Замечаете вы, что Горданов завирается!
— Да, замечаю.
— И что же?
— Ничего.
— Гм!
— Он этим себе реноме здесь составил, но все-таки я думала, что он умнее и знает, где что можно и где нельзя.
— Черт его знает, что с ним сделалось.
— Ничего; он зазнался; а может быть, и совсем не знал, что мои двери таким людям заперты.
Между тем Катерина Астафьевна распорядилась закуской. Стол был накрыт в той комнате, где в начале этой части романа сидела на полу Форова. За этим покоем в отворенную дверь была видна другая очень маленькая комнатка, где над диваном, как раз пред дверью, висел задернутый густою драпировкой из кисеи портрет первой жены генерала, Флоры. Эта каютка была спальня генеральши и Веры, и более во всем этом жилье никакого помещения не было.
Мужчины подошли к закуске и выпили водки.
— Фора! — возгласил неожиданно Горданов, наливая себе во второй раз полрюмки вина.
— Чего-с? — оборотился к нему Форов.
— Ничего: я говорю «фора», даю знак пить снова и снова.
— Ах, это!..
— Ну-с; я вас поздравляю: ему быть от меня битому, — шепнул, наклонясь к Синтяниной, майор.
— Надеюсь, только не здесь.
— Нет, нет, в другом месте!
Висленев рассказывал сестре, Форовой и Глафире о странном сне, который ему привиделся прошлою ночью.
— Не верь, батюшка, снам, все они врут, — ответила ему майорша.
— Есть пустые сны, а есть сны вещие, — возразил ей Висленев. — Мне нравится на этот счет теория спиритов. Вы ее знаете, Филетер Иванович?
— Читали мы кой-что. Помнишь, отец Евангел, новый завет-то ихний... Эка белиберда какая!
— Оно, говорят, ведь по Евангелию писано.
— Да; в здоровый бульон мистических помой подлито.
— Тех же щей, да пожиже захотелось, — вставил свое слово Евангел.
— А я уважаю спиритов и уверен, что они дадут нам нечто обновляющее. Смотрите: узкое, старое или так называемое церковное христианство обветшало, и в него — сознайтесь — искренно, мало кто верит, а в другой крайности, что же? Бесплодный материализм.
— Ну-с?
— Ну-с и должно быть что-нибудь новое, это и есть спиритизм. Смотрите, как он захватывает в Америке и повсюду, например, у нас в Петербурге: даже? некоторые государственные люди...
— Столы вертят, — подсказал майор. — Что же и прекрасно.
— Нет; не одни столы вертят, а в самом деле ответы от мертвых получают.
— Ничего-с, стихийное мудрование, все это кончится вздором, — отрезал Евангел.
— Ну подождите, как-то вы с ним справитесь.
— Ничего-с: христианство и не таких врагов видало.
— Ну, этаких не видало, это новая сила: это не грубый материализм, а это тонкая сила.
— Во-первых, это не сила, — отозвался Форов, — а во-вторых, вы истории не знаете.
— Вот как! Кто вам сказал, что я ее не знаю?
— А, разумеется, не знаете! Все это, государь мой, старье.
И Форов начал перечислять Висленеву связи спиритизма с мистическими и спиритуальными школами всех времен.
— Да, — перебил Висленев, — но сказано ведь, что ново только то, что хорошо забыто.
— Анси ретурнемент гумен эст-фет, — отозвался отец Евангел, произнося варварским, бурсацким языком французские слова. — Да и сие не ново, что все не ново.
Paix engendre prosperite,
De prosperite vient richesse.
De richesse orgueil et volupte,
D'orgueil — contentions sans cesse;
Contention — la guerre se presse...
La guerre engendre pauvrete,
La pauvrete l'humilite,
L'humilite revient la paix...
Ainsi retournement humain est fait!
[Мир порождает преуспевание,
От преуспевания происходит богатство,
От богатства — гордость и сладострастие,
От гордости — ссоры без конца;
Ссора — война торопится...
Война порождает бедность,
Бедность — смирение,
Смирение возвращает мир...
Так человеческое превращение готово! (фр.)]
Прочитал, ничтоже сумняся и мня себя говорящим по-французски, Евангел.
Заинтересованные его французским чтением, к нему обернулись все, и Бодростина воскликнула:
— Ах, какая у вас завидная память!
— Нет-с, и начитанность какая, добавьте! — заступился Форов. — Вы, Иосаф Платонович, знаете ли, чьи это стихи он вам привел? Это французский поэт Климент Маро, которого вы вот не знаете, а которого между тем согнившие в земле поколения наизусть твердили.
— А за всем тем я все-таки спирит! — решил Висленев.
Он ожидал, что его заявление просто произведет тревогу, но оно не произвело ничего. Только Форов один отозвался, сказав:
— Я сам когда порядком наспиртуюсь, так тоже делаюсь спирит.
— Значит, это хроническое, — послышалось от Горданова.
Форов встал из-за стола и, отойдя к свече, стоявшей на комоде, начал перелистывать книжку журнала.
— Что это такое вы рассматриваете, майор? — спросил его Горданов, став у него за спиной и чистя перышком зубы. Но Форов, вместо ответа, вдруг нетерпеливо махнул локтем и грубо крикнул: — Но-о!
Павел Николаевич, сдерживая улыбку, удивился.
— Чего это вы по-кучерски кричите? — сказал он, — я ведь не лошадь.
— Я не люблю, чтоб у меня за ухом зубы чистили, я брезглив.
— И не буду, майор, не буду, — успокоил его Горданов, фамильярно касаясь его плеча, но эта новая шутка еще больше не понравилась Форову, и он закричал:
— Не троньте меня, я нервен.
— При этакой-то корпуленции и нервен?
И Горданов еще раз слегка коснулся боков Форова.
Майор совсем взбесился, и у него затряслись губы.
— Говорю вам, не троньте меня: я щекотлив!
— Господин Горданов, да не троньте же вы его! — проговорила, подходя к мужу, Форова.
— Извините, я шутил, — отвечал Горданов, — и вовсе не думал рассердить майора. Вот, Висленев, ты теперь спирит, объясни же нам по спиритизму, что это делается со здоровым человеком, что он вдруг становится то брезглив, то нервен, то щекотлив и...
— Вон у него какая палка нынче с собою! — поддержал приятеля Висленев, взяв поставленную майором в углу толстую, белую палку.
Но Форов действительно стал и нервен, и щекотлив; он уже слышал то, чего другие не слыхали, и обижался, когда его не хотели обидеть.
— Не троньте моей палки! — закричал он, побледнев и весь заколотясь в лихорадке азарта, бросился к Висленеву, вырвал палку из его рук и, ставя ее на прежнее место в угол, добавил: — Моя палка чужих бьет!
— Господа, прекратите, пожалуйста, все это, — серьезно объявила, вставая, Александра Ивановна.
Гости почувствовали себя в неловком положении, и Горданов, Глафира и Висленев вскоре стали прощаться.
— Не будем сердиться друг на друга, — сказала Бодростина, пожимая руки Синтяниной.
— Нисколько, — отвечала та. — До свидания, Иосаф Платонович.
— А со мною вы не прощаетесь? — отнесся к ней Горданов, которого она старалась не заметить.
— Нет, с вами-то именно я решительнее всех прощаюсь.
— Позвольте вашу руку!
— Нет; не подаю вам и руки на прощанье, — отвечала Синтянина, принимая свою руку от руки Висленева и пряча ее себе за спину.
— Конечно, я знаю, мой приятель во всем и всегда был счастливее меня... Я конкурировать с Жозефом не посмею. Но, во всяком случае, не желал бы... не желал бы по крайней мере навлечь на себя небезопасный гнев вашего превосходительства.
Александра Ивановна слегка побледнела.
— Ваше превосходительство так хорошо себя поставили.
— Надеюсь.
— Супруг ваш генерал, имеет такое влияние...
— Что даже его жена не защищена от наглостей в своем доме.
— Нет; что пред вами должно умолкнуть все, чтобы потом не каяться за слово.
— Вон! — воскликнула быстро Александра Ивановна и, вытянув вперед руку, указала Горданову пальцем к выходу.
Павел Николаевич не успел опомниться, как Форов отмахнул пред ним настежь дверь и, держа в другой руке свою палку, которая «чужих бьет», сказал:
— Имею честь!
Горданов оглянулся вокруг и, видя по-прежнему вытянутую руку Синтяниной, вышел.
Вслед за ним пошли Бодростлна и Висленев и покатили в город Бог весть в каком настроении духа. Глава одиннадцатая. Крест.
От Александры Ивановны никто не ожидал того, что она сделала. Выгнать, человека вон из дома таким прямым и бесцеремонным образом, — это решительно было не похоже на выдержанную и самообладающую Синтянину, но Горданов, давно ее зливший и раздражавший, имел неосторожность, или имел расчет коснуться такого больного места в ее душе, что сердце генеральши сорвалось, и произошло то, что мы видели.
На время не станем доискиваться: был ли это со стороны Горданова неосторожный промах, или точно и верно рассчитанный план, и возвратимся к обществу, оставшемуся в домике Синтяниной после отъезда Бодростиной, Висленева и Горданова.
Наглость Павла Николаевича и все его поведение здесь вообще взволновали всех. Никто, по его милости, теперь не был похож на себя. Форов бегал как зверь взад и вперед; Подозеров, отворотясь от окна, у которого стоял во все время дебюта Горданов, был бледен как полотно и сжимал кулаки; Катерина Астафьевна дергала свои седые волосы, а отец Евангел сидел, сложа руки между колен и глядя себе в ладони, то сдвигал, то раздвигал их, не допуская одной до другой. Лариса же стояла как статуя печали. Одна Александра Ивановна была, по-видимому, спокойнее всех, но и это было только по-видимому: это было спокойствие человека, удовлетворившего неудержимому порыву сердца, но еще не вдумавшегося в свой поступок и не давшего себе в нем отчета. Человек в первые минуты после вспышки чувствует себя бодро и крепко, — крепче чем всегда, в пору обыкновенного спокойного состояния. Таково было теперь еще состояние и Александры Ивановны. Она спокойно слушала восторги Форовой и глядела на благодарственные кресты, которыми себя осеняла майорша. Одна Катерина Астафьевна была вполне довольна всем тем, что случилось.
— Слава же тебе, Господи, — говорила она, — что на этого шишимору нашлась наконец гроза!
— Он уже слишком зазнался! — заметила Александра Ивановна. — Ему давно надо было напомнить о его месте.
И в маленьком обществе начался весьма понятный при подобном случае разговор, в котором припоминались разные выходки, безнаказанно сошедшие с рук Горданову.
Александра Ивановна, слушая эти рассказы, все более и более укреплялась во мнении, что она поступила так, как ей следовало поступить, хотя и начинала уже сожалеть, что нужно же было всему этому случиться у нее и с нею!
— Я надеюсь, господа, — сказала она, — что так как дело это случилось между своими, то сору за дверь некому будет выносить, потому что я отнюдь не хочу, чтоб об этом узнал мой муж.
— А почему это? — вмешалась Форова. — А по-моему, так, напротив, надо рассказать это Ивану Демьянычу, пусть он, как генерал, и своею властью его за это хорошенько бы прошколил.
— Я не хочу огорчать мужа: он вспыльчив и горяч, а ему это вредно, и потом скандал — все-таки скандал.
— Ну, да! вот так мы всегда: все скандалов боимся, а мерзавцы, подобные Гордашке, этим пользуются. А ты у меня, Сойга Петровна! — воскликнула майорша, вдруг подскочив к Ларисе и застучав пальцем по своей ладони, — ты себе смотри и на ус намотай, что если ты еще где-нибудь с этим Гордашкой увидишься или позволишь ему к себе подойти и станешь отвечать ему... так я... я не знаю, что тебе при всех скажу.
Синтяниной нравился этот поворот в отношениях Форовой к Ларисе. Она хотя и не сомневалась, что майорша недолго просердится на Лару и примирится с нею по собственной инициативе, но все-таки ей было приятно, что это уже случилось.
Форова теперь вертелась как юла, она везде шарила свои пожитки, ласкала мужа, ласкала генеральшу и Веру, и нашла случай спросить Подозерова: говорил ли он о чем-нибудь с Ларой или нет?
— Лариса Платоновна со мной не разговаривала, — отвечал Подозеров.
— Да, значит, ты не говорил. Ну и прекрасно, так и показывай, что она тебе все равно, что ничего, да и только. Саша! — обратилась она к Синтяниной, — вели нам запречь твою карафашку! Или уж нам ее запрягли?
— Да, лошадь готова.
— Ну, Лара, едем! А ты, Форов, хочешь с нами на передочке? Мы тебя подвезем.
— Нет, я в город не поеду, — отвечал майор.
— Завтра пешком идти все равно далеко... Садись с нами! Садись, поедем вместе, а то мне тебя жаль.
Но Форов опять отказался, сказав, что у него еще есть дело к отцу Евангелу.
— Ну, так я с Ларой еду. Прощай.
И майорша, простясь с мужем и с приятелями, вышла под руку с Синтяниной, с Ларисой в карафашку и взяла вожжи.
Вскоре по отъезде Ларисы и Форовой вышли и другие гости, но перед тем майор и Евангел предъявили Подозерову принесенные им из города газеты с литературой Кишенского и Ванскок. Подозеров побледнел, хотя и не был этим особенно тронут, и ушел спокойно, но на дворе вспомнил, что он будто забыл свою папиросницу и вернулся назад.
— Александра Ивановна! — позвал он. — Не осудите меня... я вернулся к вам с хитростью.
— Я вас не осуждаю.
— Нет, серьезно: у меня есть странная, но очень важная для меня просьба к вам.
— Что такое, Андрей Иванович? Я, конечно, сделаю все, что в силах.
— Да, вы это в силах: не откажите, благословите меня этой рукой.
— Господи, помилуй и благослови младенца Твоего Андрея, — произнесла, улыбаясь, Синтянина.
— Нет, вы серьезно с вашей глубокой верой и от души вашей меня перекрестите.
— Но что с вами, Андрей Иваныч? Вы же сейчас только принимали все так холодно и были спокойны.
— Я и теперь спокоен как могила, но нет мира в моей душе... Дайте мне этого мира... положите на меня крест вашею рукой... Это... я уверен, принесет мне... очень нужную мне силу.
Александра Ивановна минуту постояла, как бы призывая в глубину души своей спокойствие, и затем перекрестила Подозерова, говоря:
— Мир мой даю вам и молю Бога спасти вас от всякого зла. Подозеров поцеловал ее руку и, выйдя, скоро догнал за воротами Форова и Евангела, который, при приближении Подозерова, тихо говорил что-то майору. При его приближении они замолчали.
Подозеров догадался, что у них речь шла о нем, но не сказал ни слова.
У перекрестка дорог, где священнику надо было идти направо, а Подозерову с Форовым налево, они остановились, и Евангел сладостно заговорил:
— Андрей Иваныч, зайдемте лучше переночевать ко мне.
— Нет, я не могу, — отвечал Подозеров.
— Видите ли что... мы там поговоримте с моей папинькой! (отец Евангел и его попадья звали друг друга «папиньками») она даром, что попадья, а иногда удивительные взгляды имеет.
— Да, да, матушка умная женщина, поклонитесь ей; но я не могу, не могу, я спешу в город.
Подозерову хотелось, чтобы никто, ни одна женщина с ним более не говорила и не касалась бы его ни одна женская рука.
Он нес на себе благословение и хотел, чтоб оно почивало на нем ничем не возмущаемое.
Глава двенадцатая. Лариса не узнает себя.
Висленев ехал в экипаже вместе с Бодростиной, Горданов же держал путь один; он в городе отстал от них и, приехав прямо в свою гостиницу, отослал с лакеем лошадь, а сам остался дома.
Около полуночи он встал, взял, по обыкновению, маленький револьвер в карман и вышел.
Когда Лариса и Форова приехали домой, Иосаф Висленев еще не возвращался, Катерина Астафьевна и Лара не намерены были его ждать. Форова обошла со свечой весь дом, попробовала свою цитру и, раздевшись, легла в постель.
Лариса тоже была уже раздета.
Комнаты, в которых они спали, были смежны.
Но Ларисе не спалось, она вышла в залу, походила взад и вперед, и, взяв с фортепиан цитру, принесла ее к тетке.
— Прошу вас, сыграйте мне что-нибудь, тетя.
— Вздумала же: ночью я буду ей играть!
— Да, именно, именно теперь, тетя, ночью.
Форова поднялась на локоть и торопливо заглянула в глаза племянницы острым и беспокойным взглядом.
— Что вы, тетя? Я ничего, но... мне нестерпимо... я хочу звуков.
— Открой же рояль и сыграй себе сама.
— Нет, не рояль, а это вот, это, — отвечала Лара, морща лоб и подавая тетке цитру.
Катерина Астафьевна взяла инструмент, и нежные, щиплющие звуки тонких металлических струн запели: «Коль славен наш Господь в Сионе».
Лариса стала быстро ходить взад и вперед по комнате и часто взглядывала на изображение распинаемого на Голгофе Христа.
Цитра кончила, но чрез минуту крошечный инструмент снова защипал сердце, и ему неожиданно начал вторить дребезжащий, но еще довольно сильный голос майорши.
«Помощник и покровитель, бысть мне во спасение», — пела со своею цитрой Катерина Астафьевна.
Лара вздохнула и, оборотясь к образу, тихо стала на колени и заплакала и молилась, молилась словами тетки, и вдруг потеряла их. Это ее удивило и рассердило. Она делала все усилия поймать оборванную мысль, но за стеной ее спальни, в зале неожиданно грянул бальный оркестр.
Лариса вскочила и взялась за лоб... Ничего не было, никакого оркестра: ясно, что это ей только показалось. Лариса посмотрела на часы, было уже час за полночь. Она взошла в комнату тетки и позвала ее по имени, но Катерина Астафьевна крепко спала.
Лара поняла, что столбняк ее длился довольно долго, прежде чем ее пробудили от него звуки несуществующего оркестра, и удивилась, как она не заметила времени? Она торопливо заперла дверь в залу на ключ, помолилась наскоро пред образом, разделась, поставила свечу на предпостельном столике и села в одной сорочке и кофте на диване, который служил ей кроватью, и снова задумалась.
Так прошел еще час. Висленев все не возвращался еще; а Лариса все сидела в том же положении, с опущенною на грудь головой, с одною рукой, упавшею на кровать, а другою окаменевшею с перстом на устах. Черные волосы ее разбегались тучей по белым плечам, нескромно открытым воротом сорочки, одна нога ее еще оставалась в нескинугой туфле, меж тем как другая, босая и как мрамор белая, опиралась на голову разостланной у дивана тигровой шкуры.
— Господи! — думала она, мысленно проведя пред собой всю свою недолгую прошлую жизнь. — Какой путь лежит предо мною и чем мне жить. В каком капризе судьбы и для чего я родилась на этот свет, и для чего я, прежде чем начала жить, растеряла все силы мои? Зачем предо мною так беспощадно одни осуждали других и сами становились все друг друга хуже? Где же идеал?.. Я без него... Я вся дитя сомнений: я ни с кем не согласна и не хочу соглашаться. Я не хочу бабушкиной морали и не хочу морали внучек. Мне противны они и противны те, кто за них стоит, и те, кто их осуждает. Это все люди с концом в самом начале своей жизни... А где же живая душа с вечным движением вперед? Не дядя ли Форов, замерзший на отжившей старине; не смиренный ли Евангел; не брат ли мой, мой жалкий Иосаф, или не Подозеров ли, — Испанский Дворянин, с одною вечною и неизменною честностью? Что я буду делать с ним? Я не могу же быть... испанскою дворянкой! Я хочу... ничего не хотеть, и... Этот человек... Горданов... в нем мой покой! Я его ненавижу и... я люблю его... Я люблю этот трепет и страх, которые при нем чувствую! Боже, какое это наказание! Меня к нему влечет неведомая сила, и между тем... он дерзок, нагл, надменен... даже, может быть, не честен, но... он любит меня... Он любит меня, а любовь творит чудеса, и это чудо над ним совершу я!..
Лариса покраснела и вздрогнула.
Может быть, что ее испугала свеча, которая горела тихо и вдруг вспыхнула: на нее метнулась ночная бабочка и, опалив крылышки, прилипла к стеарину и затрепетала. Лариса осторожно сняла насекомое со свечи и в особенном соболезновании вытерла его крылышки и хотела уже встать, чтобы выпустить бабочку в сад, как взглянула в окно и совсем потерялась.
В узкой полосе стекла между недошедшею на вершок до подоконника шторой на нее смотрели два черные глаза; она в ту же минуту узнала эти глаза: то были глаза Горданова.
Первым впечатлением испуганной и сконфуженной Лары было чувство ужаса, затем весьма понятный стыд, потому что она была совсем раздета. Затем первое ее желание было закричать, броситься к тетке и разбудить ее, но это желание осталось одним желанием: открытые уста Ларисы только задули свечу и не издали ни малейшего звука.
Глава тринадцатая. В ожидании худшего. Оставшись впотьмах и обеспеченная лишь тем, что ее теперь не видно, Лара вскочила и безотчетно взялась за положенный на кресле пеньюар.
А между тем, когда в комнате стало темнее, чем в саду, где был Горданов, Ларисе стал виден весь движущийся контур его головы.
Горданов двигался взад и вперед вдоль подзора шторы: им, очевидно, все более овладевало нетерпение, и наглость его бушевала бессилием...
Ларисе еще представлялась полная возможность тихо разбудить тетку, но она этого не сделала. Мысль эта отошла на второй план, а на первом явилась другая. Лара спешною рукой накинула на себя пеньюар и, зайдя стороной к косяку окна, за которым метался Горданов, тихо ослабила шнурок, удерживавший занавеску.
Штора сползла, и подзор закрылся, но это Горданову только придало новую смелость, и он сначала тихо, а потом все смелей и смелей начал потрогивать раму.
Девушка не могла себе представить, до чего это может дойти и, отступя внутрь комнаты, остановилась. Горданов не ослабевал: страсть и дерзость его разгорались: в комнате послышался даже гул его говора.
Лара опять метнулась к двери, которая вела в столовую, где спала тетка, и... с незнакомым до сих пор чувством страстного замирания сердца притворила эту дверь.
Ей пришло на мысль, что если она разбудит тетку, то та затеет целую историю и непременно станет обвинять ее в том, что она сама подала повод к этой наглости. Но Катерина Астафьевна спала крепким сном, и хотя Лариса было перепугалась, когда дверь немножко пискнула на своих петлях, однако испуг этот был совершенно напрасен. Лара приложила через минуту ухо к дверному створу и убедилась, что тетка спит, — в этом убеждало ее сонное дыхание Форовой. А Горданов не отставал в этом и продолжал свои настойчивые хлопоты вокруг рамы.
— Этой дерзости нельзя же оставить так, да и, наконец, это дойдет Бог знает до чего: Катерина Астафьевна может проснуться и... еще хуже: внизу, в кухне, может все это услышать прислуга...
Она ощутила в себе решимость и силу самой отстоять свою неприкосновенность и подошла к окну, — минута, и край шторы зашевелился.
Горданов опять качнул раму.
Лариса положила трепещущую руку на крючок и едва лишь его коснулась, как эта рама распахнулась, и рука Лары словно в тисках замерла в руке Горданова.
— Ты открыла, Лариса! я так этого и ждал: тебе должна быть чужда пустая жеманность, — заговорил Павел Николаевич, страстно целуя руку Лары.
— Я вовсе не для того... — начала было Лара, но Горданов ее перебил.
— Это все равно, я не мог не видеть тебя!.. прости меня!..
— Уйдите.
— Я обезумел от любви к тебе, Лара! Твоя краса мутит мой разум!
— Уйдите, молю вас, уйдите.
— Ты должна знать все... я иду умирать за тебя!
— За меня?!
— И я хотел тебя видеть... я не мог отказать себе в этом... Дай же, дай мне и другую твою ручку! — шептал он, хватая другую руку Лары и целуя их обе вместе. — Нет, ты так прекрасна, ты так несказанно хороша, что я буду рад умереть за тебя! Не рвись же, не вырывайся... Дай наглядеться... теперь... вся в белом, ты еще чудесней... и... кляни и презирай меня, но я не в силах овладеть собой: я раб твой, я... ранен насмерть... мне все равно теперь!
Ларисе показалось, что на глазах его показались слезы: это ее подкупило.
— Пустите меня! нас непременно увидят... — чуть слышно прошептала Лара, в страхе оборачивая лицо к двери теткиной комнаты. Но лишь только она сделала это движение, как, обхваченная рукой Горданова, уже очутилась на подоконнике и голова ее лежала на плече Павла Николаевича. Горданов обнимал ее и жарко целовал ее трепещущие губы, ее шею, плечи и глаза, на которых дрожали и замирали слезы.
Лариса почти не оборонялась: это ей было и не под силу; делая усилия вырваться, она только плотнее падала в объятия Горданова. Даже уста ее, теперь так решительно желавшие издать какой-нибудь звук, лишь шевелились, невольно отвечая в этом движении поцелуям замыкавших их уст Павла Николаевича. Лара склонялась все более и более на его сторону, смутно ощущая, что окно под ней уплывает к ее ногам; еще одно мгновение, и она в саду. Но в эту минуту залаяла собака и по двору послышались шаги.
Горданов посадил Лару на подоконник и, тихо прикрыв раму, пошел чрез садовую калитку на двор и поймал здесь на крыльце Висленева.
— Чего ты здесь, Павел Николаевич? — осведомился у него Иосаф.
— Вот вопрос! Как чего я здесь? Что же ты, любезный, верно, забыл, что такое мы завтра делаем? — отвечал Горданов.
— Нет, очень помню: мы завтра стреляемся.
— А если помнишь, так надо видеть, что уже рассветает, а в пять часов надо быть на месте, которого я, вдобавок, еще и не знаю.
— Я буду, Поль, буду, буду.
— Ну, извини, я тебе не верю, а пойдем ночевать ко мне. Теперь два часа и ложиться уже некогда, а напьемся чаю и тогда как раз будет время ехать.
— Да, вот еще дело-то: на чем ехать?
— Вот то-то оно и есть! А еще говоришь: «буду, буду, буду», и сам не знаешь, на чем ехать! Переоденься, если хочешь, и идем ко мне, — я уже припас извозчика.
Висленев пошел переодеться; он приглашал взойти с собою и Горданова, но тот отказался и сказал, что он лучше походит и подождет в саду.
Лишь скрылся Висленев, Горданов подбежал к Ларисиному окну и чуть было попробовал дверцу, как она сама тихо растворилась. Окно было не заперто, и Лара стояла у него в прежнем положении.
Горданов ступил ногой на фундамент и страстно прошептал:
— Поцелуй меня еще раз, Лара.
Лариса молчала.
— Сама! Лара! я прошу, поцелуй меня сама! Ты мне отказываешь?
Лара колебалась.
— Лара, исполни этот мой каприз, и я исполню все, чего ты захочешь... Ты медлишь?.. Ты не хочешь?
На дворе послышался голос Висленева, призывавший Павла Николаевича.
— Идите... брат мой, — прошептала Лара.
— Кто этот брат? он во...
— О, Боже! не договаривайте... Он идет.
— Ну, знай же: если так, — я не уйду без твоего поцелуя!
Лара в страхе подвинулась к нему и, робко прильнув к его губам устами, кинулась назад в комнату.
Горданов сорвал этот штос и исчез.
Когда кончилась процедура поцелуев, Лариса, как разбитая, обернулась назад и попятилась: пред нею, в дверях, стояла совсем одетая Форова.
— Послушай! — говорила охриплым и упалым голосом майорша. — Послушай! запри за мной двери, или вели запереть.
— Куда это вы? — прошептала Лара.
— Домой.
— Зачем... зачем... вы все...
— Не знаю как всем, а мне здесь не место.
И Форова повернулась и пошла. Лара ее догнала в зале и, схватив тетку за руку, сама потупилась.
— Пусти меня! — проговорила Форова.
— Одну минутку еще!..
— Ни одной, ни одной секунды здесь быть не хочу, после того, что я видела своими глазами.
Лара зарыдала.
— Так зачем же, зачем же вы... его при мне бранили, обижали? Боже! Боже!
— Вот так и есть! Мы же виноваты?
Но Лариса в ответ на это только зарыдала истерическим рыданьем. Глава четырнадцатая. В ожидании смерти.
Форов провел эту ночь у Подозерова; майор как пришел, так и завалился и спал, храпя до самого утра, а Подозеров был не во сне и не в бдении. Он лежал с открытыми глазами и думал: за что, почему и как он идет на дуэль?..
— Они обидели меня клеветой, но это бы я снес; но обиды бедной Ларе, но обиды этой другой святой женщине я снесть не могу! Я впрочем... с большим удовольствием умру, потому что стыдно сознаться, а я разочарован в жизни; не вижу в ней смысла и... одним словом, мне все равно!
И вдруг после этого Подозеров погрузился в сосредоточенную думу о том: как шла замуж Синтянина! и когда его в три часа толкнул Форов, он не знал: спал он или не спал, и только почувствовал на лбу холодные капли пота.
Форов пил чай и сам приготовлял и подавал чай хозяину.
— Теперь подите-ка вот сюда! — позвал его майор в спальню. — Завещание у вас про всякий случай готово? Я говорю, про всякий случай.
— Зачем? имущества у меня нет никакого, — а что есть, раздавайте бедным. — Подозеров улыбнулся и добавил: — это тоже про всякий случай!
— Да так, но все-таки... это делают: причину, может быть, пожелаете объяснить... из-за чего?.. Волю, желание свое кому-нибудь сообщить?..
— Из-за чего? А кому до этого дело? Если вас спросят, из-за чего это было, то скажите, пожалуйста, что это ни до кого не касается.
— Что же, и так bene [Хорошо (лат.)]! И еще вот что, — продолжал он очень серьезно и с расстановкой: — вы знаете... я принадлежу к так глаголемым нигилистам, — не к мошенникам, которые на эту кличку откликаются, а к настоящим... староверческим нигилистам древляго благочестия...
— Хорошо-с, — отвечал, снова улыбнувшись, Подозеров.
— То-то еще хорошо ли это, я... этого, по правде вам сказать, и сам достоверно не знаю. Я, как настоящий нигилист, сам свои убеждения тоже, знаете... невысоко ставлю. Черт их знает: кажется, что-нибудь так, а... ведь все оно может быть и иначе... Я, разумеется, в жизнь за гробом не верю и в Бога не верю... но...
— Вы, верно, хотите, чтоб я помолился Богу? — перебил Подозеров.
— Да, я этого особенно не хочу, а только напоминаю, — отвечал, крепко сжав его руку, майор. Вы не смейтесь над этим, потому что... кто знает, чего нельзя узнать.
— Да я и не смеюсь: я очень рад бы помолиться, но я тоже...
— Да, понимаю: вы деист, но не умеете молиться... считаете это лишним. Пожалуй!
— Но я по вашему совету пробегу одну-две главы из Евангелия.
— И прекрасно, мой совет хоть это сделать, потому что... я себе верен, я не считаю этого нужным, но я это беру с утилитарной точки зрения: если там ничего нет, так это ничему и не помешает... Кажется, не помешает?
— Разумеется.
— А как если есть!.. Ведь это, как хотите, ошибиться не шутка. Подите-ка уединитесь.
И майор, направляя Подозерова в его комнату, затворил за ним двери.
Когда они опять сошлись, Форов счел нужным дать Подозерову несколько наставлений, как стоять на поединке, как стрелять и как держаться.
Подозеров все это слушал совершенно равнодушно.
В четыре часа они спохватились, на чем им ехать. С вечера эта статья была позабыта, теперь же ее нельзя было исправить.
Рискуя опоздать, они решились немедленно отправиться пешком и шли очень скоро. Утро стояло погожее, но неприятное: ветреное и красное.
Дорогой с ними не случилось ничего особенного, только и майор, и Подозеров оба немножко устали.
Но вот завиделся и желтый, и песчаный холм посреди молодого сосенника: это Корольков верх, это одно роковое условное место.
Форов оглянулся вокруг и, сняв фуражку, обтер платком лоб.
— Их нет еще, значит? — спросил Подозеров.
— Да; их, значит, нет. Вы сядьте и поотдохните немножко.
— Нет, я ничего... я совсем не устал.
— Не говорите: переходы в этих случаях ужасно нехороши: от ходьбы ноги слабеют и руки трясутся и в глазу нет верности. И еще я вам вот что хотел сказать... это, разумеется, может быть, и не нужно, да я даже и уверен, что это не нужно, но про всякий случай...
— Пожалуйста: что такое?
— Когда вы молились...
— Ну-с?
— Указали ли вы надлежащим образом, что ведь то... зачем вы пришли сюда, неправосудно будет рассматривать наравне с убийством? Ведь вот и пророки и мученики... за идею... умирали и...
— Да зачем же это указывать? Поставить на вид, что ли? — И Подозеров даже искренно рассмеялся.
Форов подумал и отвечал:
— Да ведь я не знаю, как это надо молиться, или... мириться с тем, чего не знаю.
— Нет, вы это знаете лучше многих! — проговорил Подозеров, дружески сжав руку майора. — Я не могу представить себе человека, который бы лучше вас умел доказать, что хорошая натура всегда остается хорошею, во всякой среде и при всяком учении.
— Ну, извините меня, а я очень могу себе представить такого человека, который может все это гораздо лучше меня доказать.
— Кто же это?
— Девица Ванскок в Петербурге. А вот кто-то и едет.
За леском тихо зарокотали колеса: это подъехали Висленев и Горданов.
Обе пары пошли, в некотором друг от друга расстоянии, к одной и той же песчаной поляне за кустами.
Форов пригласил Висленева в сторону и они начали заряжать пистолеты, то есть, лучше сказать, заряжал их Форов, а Висленев ему прислуживал. Он не умел обращаться с оружием и притом праздновал трусу.
Подозеров глядел на песок и думал, что кровь здесь будет очень быстро впитывать. Горданов держал себя соколом.
Форов с важностью должностного лица начал отсчитывать шаги, и затем Подозеров и Горданов были поставлены им на урочном расстоянии лицом друг к другу.
Дерзкий взгляд и нахальная осанка не покидали Горданова.
«Это черт знает что! — думал Форов. — Знаю, уверен и не сомневаюсь, что он естественный и презреннейший трус, но что может значить это его спокойствие? Нет ли на нем лат? Да не на всем же на нем латы? Или... не известили ли они, бездельники, сами полицию и не поведут ли нас всех отсюда на съезжую? Чего доброго: от этой дряни всего можно ожидать».
Но Форов не все предугадывал и ожидал совсем не того, на что рассчитывал, держа высоко свою голову, Горданов.
Глава пятнадцатая. Секрет.
Александра Ивановна, выпроводив гостей, видела, как работник запер калитку, поманил за собою собак и ушел спать на погребицу.
Синтянина подошла к окну и глядела через невысокий тын на широкие поля, на которых луна теперь выдвигала прихотливые очертания теней от самых незначительных предметов на земле и мелких облачков, бегущих по небу.
Вера сняла дневное платье, надела свою белую блузку, заперла дверь, опустила белые шторы на окнах, в которые светила луна и, стоя с лампой посреди комнаты, громко топнула.
Синтянина оглянулась.
— Ты не будешь спать? — спросила Вера своими знаками мачеху.
— Нет, мне не хочется спать.
— Да ты и не спи.
— Зачем?
Девочка улыбнулась и отвечала: «Так... теперь хорошо», и с этим она вошла в спаленку, легла на свой диван под материным портретом, завешенным кисеей, и погасила лампу.
Это Александре Ивановне не понравилось, тем более, что вслед за тем как погас свет, в спаленке послышался тихий шорох и при слабом свете луны, сквозь опущенную штору, было заметно какое-то непокойное движение Веры вдоль стены под портретом ее матери.
Александра Ивановна с неудовольствием зажгла свечу и взошла в спальню. Вера лежала на своем месте и, казалось, спала, но сквозь сон тихо улыбалась. У нее бывал нередко особый род улыбок, добрых, но иронических, которые несколько напоминали улыбки опытной няни, любящей ребенка и насмехающейся над ним. Александра Ивановна в течение многих лет жизни с глухонемою падчерицей никогда не могла привыкнуть к этим ее особенным улыбкам, и они особенно неприятно подействовали на нее сегодня, после шалости Веры в осиннике. Генеральша давно была очень расстроена всем, что видела и слышала в последнее время; а сегодня ее особенно тяготили наглые намеки на ее практичность и на ее давнюю слабость к Висленеву, и старые раны в ее сердце заныли и запенились свежею кровью.
— Нет, этого невозможно так оставить: я могу умереть внезапно, мгновенно, со всею тяжестью этих укоризн... Нет, этого нельзя! Пока я жива, пускай говорят и думают обо мне что хотят, но память моя... она должна быть чиста от тех пятен, которые кладут на нее и которых я не хочу и не могу снять при жизни. Зачем откладывать вдаль? — Я теперь взволнована, и все давно минувшее предо мною встает свежо, как будто все беды жизни ударили в меня только сию минуту. Я все чувствую, все помню, вижу, знаю и теперь я в силах передать все, что и зачем я когда сделала. Стало быть, настал час, когда мне надо открыть это, и Горданов принес мне пользу, заставив меня за это взяться.
С этим генеральша торопливо переменила за ширмой платье на блузу и, распустив по спине свои тучные косы, зажгла лампу. Установив огонь на столе, она достала бумагу и начала писать среди нерушимого ночного молчания.
«Призвав Всемогущего Бога, которому верую и суда которого несомненно ожидаю, я, Александра Синтянина, рожденная Гриневич, пожелала и решилась собственноручно написать нижеследующую мою исповедь. Делаю это с тою целию, чтобы бумага эта была вскрыта, когда не будет на свете меня и других лиц, которых я должна коснуться в этих строках: пусть эти строки мои представят мои дела в истинном их свете, а не в том, в каком их толковали все знавшие меня при жизни.
Я, незаметная и неизвестная женщина, попала под колесо обстоятельств, накативших на мое отечество в начале шестидесятых годов, которым принадлежит моя первая молодость. Без всякого призвания к политике, я принуждена была сыграть роль в событиях политического характера, о чем, кроме меня, знает только еще один человек, но этот человек никогда об этом не скажет. Я же не хочу умереть, не раскрыв моей повести, потому что человеку, как бы он ни был мал и незаметен, дорога чистота его репутации.
По всеобщему мнению знающих меня людей, я позорно сторговала собою при моем замужестве и погубила моим вероломством человека, подававшего некогда большие надежды. Это клевета, а дело было вот как. Я с детских почти лет считалась невестой Иосафа Платоновича Висленева, которого любила первою детскою любовью. Он, по его словам, тоже любил меня, чему я, впрочем, имею основания не верить. И вот ему-то я и изменила, кинула его в несчастии, вышла замуж за генерала и провожу счастливую жизнь... Так думают все, и я в этом никого не разуверяю, однако же все-таки это не так. В самой ранней нашей юности между нами с Висленевым обнаружились непримиримые и несогласимые разности во взглядах и симпатиях: то время, которое я отдавала приготовлению к жизни, он уже посвящал самой жизни, но жизни не той, которую я считала достойною сил и мужества отвечающего за себя человека. В нем была бездна легкомысленности, которую он считал в себе за отвагу; много задора, принимавшегося им за энергию; масса суетности, которая казалась ему пренебрежением к благам жизни, и при всем этом полное пренебрежение к спокойствию и счастию ближних. Я все это заметила в нем очень рано и знала гораздо ближе всех сторонних людей, которых Висленев мог обманывать шумом и диалектикой, но, узнав и изучив его пороки, я все-таки никогда не думала от него отрекаться. Я знала, что я не могу ожидать истинного счастия с таким человеком, который чем далее, тем более научался и привыкал относиться с непростительным, легкомысленным неуважением ко всему, к чему человеку внушается почтение самою его натурой. Я видела, что мы с ним не можем составить пары людей, которые могли бы восполнять друг друга и служить один другому опорой в неудачах и несчастиях. Мы ко всему относились розно, начиная с наших ближайших родных и кончая родиной. Но тем не менее я любила этого несчастного молодого человека и не только готовилась, но и хотела быть его женой, в чем свидетельствуюсь Богом, которому видима моя совесть. Я назначала мою жизнь на то, чтобы беречь его от его печальных увлечений; я знала, что во мне есть своя доля твердости и терпения, с которыми можно взяться преодолеть шероховатости довольно дурной натуры. Но увы! у того, о ком я говорю, не было никакой натуры. Это был первый видимый мною человек довольно распространенного нынче типа несчастных людей, считающих необходимостью быть причисленными к чему-нибудь новому, модному и не заключающих сами в себе ничего. Это люди, у которых беспокойное воображение одолело ум и заменило чувства. Помочь им, удерживать их и регулировать нельзя: они уносятся как дым, тают как облако, выскользают как мокрое мыло. Женщине нельзя быть ни их подругой, ни искать в них опоры, а для меня было необходимо и то, и другое; я всегда любила и уважала семью. Висленев окончил курс, приехал домой, поступил на службу и медлил на мне жениться, я не знаю почему. Я полагаю, что я ему в то время разонравилась за мою простоту, которую он счел за бессодержательность, — я имею основание так думать, потому что он не упускал случая отзываться с иронией, а иногда и прямо с презрением о женщинах такого простого образа мыслей, каков был мой, и таких скромных намерений, каковы были мои, возникшие в семье простой и честной, дружной, любящей, но в самом деле, может быть, чересчур неинтересной. Его идеалом в то время были женщины другого, мне вовсе неизвестного, но и незавидного для меня мирка. Он с жаром говорил о покинутых им в Петербурге женщинах, презирающих брак, ненавидящих домашние обязанности, издевающихся над любовью, верностью и ревностью, не переносящих родственных связей, говорящих только «о вопросах» и занятых общественным трудом, школами и обновлением света на необыкновенных началах. Мне все это представлялось очень смутно: я Петербурга никогда не видала, о жизни петербургской знала только понаслышке да из книг, но я знала, что если есть такие женщины, которыми бредил Висленев, то именно в среде их только и может быть отыскана та или те, которые могли бы слиться с ним во что-нибудь гармоническое. Я обдумала это, и найдя, что я ему по всему не пара, что я ему скорее помеха, чем помощница, решила предоставить наши отношения судьбе и времени. Не скажу, чтоб это не было особенно тяжко, потому что любовь моя к нему в это время была уже сильно поколеблена и притуплена холодным резонерством, которым он обдавал мои горячие порывы к нему в письмах. Потом он мне сказал однажды, что, по его мнению, «истинна только та любовь, которая не захватывает предмет своей привязанности в исключительное обладание себе, но предоставляет ему всю ширь счастья в свободе». После этих слов, которые я поняла во всей их безнатурности и цинизме, со мною произошло нечто странное: они возбудили во мне чувство... неодолимой гадливости, — человек этот точно отпал от моего сердца и уже более никогда к нему не приближался, хотя тем не менее я бы все-таки пошла за него замуж, потому что я его безмерно жалела. Но Бог решил иначе. Он судил мне другую долю и в ней иные испытания.
Вращаясь в кружке тревожных и беспристальных людей, Висленев попал в историю, которую тогда называли политическою, хотя я убеждена, что ее не следовало так называть, потому что это была не более как ребяческая глупость и по замыслу, и по способам осуществления; но, к сожалению, к этому относились с серьезностью, для которой без всякого труда можно бы указать очень много гораздо лучших и достойнейших назначений. Иосаф Висленев был взят и в бумагах его был отыскан дерзостнейший план, за который автора, по справедливости, можно было бы посадить, если не в сумасшедший, то в смирительный дом, но, что всего хуже, при этом плане был длинный список лиц, имевших неосторожность доверяться моему легкомысленному жениху. Мой отец был возмущен этим до глубины души, и в то время как Иосаф Висленев, в качестве политического арестанта, пользовался в городе почти общим сочувствием, у нас в доме его строго осуждали, и я признавала эти осуждения правильными.
Легкомысленность, составляющая недостаток человека, пока он вредит ею только самому себе, становится тяжким преступлением, когда за нее страждут другие. Таково было мнение моего умного и честного отца, таковы же были и мои убеждения, и потому мы к этому отнеслись иначе, чем многие.
Дело Висленева было в наших глазах ничтожно по его несбыточности, но он, конечно, должен был знать, что его будут судить не по несбыточности, а по достоинству его намерений, и, несмотря на то, что играл не только репутацией, но даже судьбой лиц, имеющих необдуманность разделять его ветреные планы и неосторожность вверить ему свои имена. Он погибал не один, но предавал с собою других таких же, как он, молодых людей, в которых гибли лучшие надежды несчастных отцов, матерей, сестер и мне подобных невест. Отец мой пользовался некоторым доверием и расположением генерала Синтянина, который жил с нами на одном дворе и сватался однажды ко мне во время видимого охлаждения ко мне Висленева, но получил отказ. Дело во многом от него зависело. Я это знала и... мне вдруг пришла мысль... но, впрочем, буду рассказывать по порядку.
Был страшный, вечно живой и незабвенный для меня вечер, когда мы, вскоре после ареста Висленева, говорили с моим отцом об этом деле. Солидный и честный отец мой был очень взволнован, он не запрещал мне и теперь выйти за Висленева, но он не скрывал, что не хотел бы этого. Он говорил, что это человек с преступным, ничего не щадящим легкомыслием, и я в глубине души с ним согласилась, что женщине нечего делать с таким человеком. Может быть, это было несколько преувеличено, но вечная безнатурность Висленева, сквозь которую, как копье сквозь тень, проникали все просьбы, убеждения и уроки прошлого, внушала мне чувство страшной безнадежности. Если бы он был подвержен самым грубым страстям и порокам, я бы их так не страшилась; если б он был жесток, я бы надеялась смягчить его; если б он был корыстолюбив, я бы уповала подавить в нем эту страсть; если б он имел позорные пристрастия к вину или к картам, я бы старалась заставить его их возненавидеть; если б он был развратен, я бы надеялась устыдить его; но у него не было брошено якоря ни во что; он тянулся за веяниями, его сфера была разлад, его натура была безнатурность, его характер был бесхарактерность. Его могло пересоздать одно: большое горе, способное вдруг поднять со дна его души давно недействующие силы. Вся жизнь моя явилась предо мной как бы в одной чаше, которую я должна была или бережно донести и выпить на положенном месте, или расплескать по сорному пути. Я вдруг перестала быть девушкой, жившею в своих мечтах и думах, и почувствовала себя женщиной, которой нечто дано и с которой, по вере моей, нечто спросится за гробом. (Я всегда верила и верую в Бога просто, как велит церковь, и благословляю Провидение за эту веру.) Внутренний голос отвечал за меня отцу моему, что мне нельзя быть женой Висленева. Внутренний же голос (я не могу думать иначе), из уст моего отца, сказал мне путь, которым я должна была идти, чтобы чем-нибудь облегчить судьбу того, которого я все-таки жалела.
Отец благословил меня на страдания ради избавления несчастных, выданных моим женихом. Это было так. Он сказал: «Не я научу тебя покинуть человека в несчастии, ты можешь идти за Висленевым, но этим ты не спасешь его совести и людей, которые ради его гибнут. Если ты жалеешь его — пожалей их; если ты женщина и христианка, поди спаси их, и я... не стану тебя удерживать: я сам, моими старыми руками, благословляю тебя, и скрой это, и Бог тебя тогда благословит».
Отец не знал, в какие роковые минуты нравственной борьбы он говорил мне эти слова, или он знал более чем дано знать нашему чувственному ведению. Он рисовал мне картину бедствий и отчаяния семейств тех, кого губил Висленев, и эта картина во всем ее ужасе огненными чертами напечатлелась в душе моей; сердце мое преисполнилось сжимающей жалостью, какой я никогда ни к кому не ощущала до этой минуты, жалостью, пред которою я сама и собственная жизнь моя не стоили в моих глазах никакого внимания, и жажда дела, жажда спасения этих людей заклокотала в душе моей с такою силой, что я целые сутки не могла иметь никаких других дум, кроме одной: спасти людей ради их самих, ради тех, кому они дороги, и ради его, совесть которого когда-нибудь будет пробуждена к тяжелому ответу. В душе моей я чувствовала Бога; я никогда не была так счастлива, как в эти вечно памятные мне минуты, и уже не могла позволить совершиться грозившему несчастию, не употребив всех сил отвратить его. Тогда впервые я почувствовала, что на мой счет заблуждались все, считая меня спокойною и самообладающею; тут я увидела, что в глубине моей души есть лава, которой мне не сдержать, если она вскипит и расколышется.
Я должна была идти спасать их, чужих мне по убеждениям и вовсе мне незнакомых людей; в этом мне показалось мое призвание. Он сам в своих разговорах не раз указывал мне путь к такому служению, он говорил о женщинах, которые готовы были отдавать себя самих за избранное ими дело, а теперь средства к такому служению были в моих руках. Я уже сказала, что генерал Синтянин, нынешний муж мой, от которого зависело все, или, по крайней мере, очень многое для этих несчастных, искал руки моей, и после моего отказа в ней мстил отцу моему. Я была очень недурна собою: мою голову срисовывали художники для своих картин; известный скульптор, проездом чрез наш город, упросил моего отца дозволить ему слепить мою руку. Я была очень стройна, свежа, имела превосходный цвет лица, веселые большие голубые глаза и светло-золотистые волосы, доходившие до моих колен. Души моей генерал не знал, и я понимала, что я против воли моей внушала ему только одну страсть. Это было ужасно, но я решила воспользоваться этим, чтобы совершить мой подвиг. (Я называю это подвигом потому, что генерал Синтянин внушал мне не только отвращение, которое, может быть, понятно лишь женщине, но он возбуждал во мне ужас, разделявшийся в то время всеми знавшими этого человека. Он был вдов, и смерть жены его, по общей молве, лежала на его совести.) Молодая душа моя возмущалась при одной мысли соединить жизнь мою с жизнью этого человека, но я на это решилась... Предо мной стоял Христос с Его великой жертвой, и смятения мои улегались. Я много молилась о даровании мне силы, и она была мне ниспослана.
Утром одного дня, отстояв раннюю обедню в одиноком храме, я вошла в дом генерала, и тут со мною случилось нечто чудесное. Чуть я отворила дверь, вся моя робость и все сомнения мои исчезли; в груди моей забилось сто сердец, я чувствовала, как множество незримых рук подхватили меня и несли, как бы пригибая и сглаживая под ногами моими ступени лестницы, которою я всходила. Экзальтация моя достигала высочайшей степени; я действительно ощущала, что меня поддерживают и мною руководят извне какие-то невидимые силы. Ни моя молодость и неопытность, ни прямота моей натуры и большое мое доверие к людям, ничто не позволяло мне рассчитывать, что я поведу дело так ловко, как я повела его. Когда я перечитываю библейскую повесть о подвиге жены из Витулии, мне, конечно, странно ставить себя, тогдашнюю маленькую девочку, возле этой библейской красавицы в парче и виссоне, но я, как и она, не забыла даже одеться к лицу. Не забываю никаких мелочей из моих экзальтаций этого дня: мне всегда шло все черное, и я приняла это в расчет: я была в черном мериносовом платье и черной шляпке, которая оттеняла мои светло-русые волосы и давала мне вид очень красивого ребенка, но ребенка настойчивого, своенравного и твердого, не с детскою силой.
Я приступила к делу прямо. Оставшись наедине с Синтяниным, я предложила ему купить мое согласие на брак с ним добрым делом, которое заключалось в облегчении судьбы Висленева и его участников. Я отдавала все, что было у меня, всю жизнь мою, с обетом не нарушить слова и верною дойти до гроба; но я требовала многого, и я теперь еще не знаю, почему я без всяких опытных советов требовала тогда именно того самого, что было нужно. Я повторяю, что там была не я: в моей груди кипела сотня жизней и билось сто сердец, вокруг меня кишел какой-то рой чего-то странного, меня учили говорить, меня сажали, поднимали, шептали в уши мне какие-то слова, и в этом чудном хаосе была, однако, стройность, благодаря которой я все уладила. Остановить дело было невозможно, это же было не во власти Синтянина, но я хотела, чтобы поступки и характер Висленева получили свое настоящее определение, чтоб источником его безрассудных дел было признано его легкомыслие, а не злонамеренность, и чтобы мне были вручены и при мне уничтожены важнейшие из компрометирующих его писем, а, главное, списки лиц, написанные его рукой. Я не уступала из этого ничего; я вела торг с тактом, который не перестает изумлять меня и поныне. Я была тверда, осторожна и неуступчива, и я выторговала все. Мне помогали моя тогдашняя миловидность и свежесть и оригинальность моего положения, сделавшая на Синтянина очень сильное впечатление. Ему именно хотелось купить себе жену, и он купил у меня мою руку тою ценою, какой я хотела: любуясь мною, он дал мне самой выбрать из груды взятых у Висленева бумаг все, что я признавала наиболее компрометирующим его и других, и я в этом случае снова обнаружила опытность и осторожность, которую не знаю чему приписать. Все это было сожжено... это было сожжено... но сожжено вместе с моею свободой и счастием, которые я спалила на этом огне.
Я дала слово Синтянину выйти за него замуж и сдержала это слово в тот день, когда было получено сведение об облегчении участи Висленева, я была обвенчана с генералом при всеобщем удивлении города и даже самих моих добрых родителей. Это был мой первый опыт скрыть от всех настоящую причину того, что я сделала по побуждениям, может быть слишком восторженным и, пожалуй, для кого-нибудь и смешным, но, надеюсь — во всяком случае не предосудительным, и чистым. Принесла ли я этим пользу и поступила ли осмотрительно и честно, пусть об этом судит Бог и те люди, которым жизнь моя будет известна во всей ее истине, как я ее нынче исповедую, помышляя день смертный и день страшного суда, на котором обнажатся все совести и обнаружатся все помышления. Я поступала по разумению моему и неотразимому влечению тех чувств, которым я повиновалась. Долго размышлять мне было некогда, а советоваться не с кем, и я спасла как умела и как могла людей, мне чуждых. Более я не скажу ничего в мое оправдание, и пусть всеблагой Бог да простит всем злословящим меня людям их клеветы, которыми они осыпали меня, изъясняя поступок мой побуждениями суетности и корыстолюбия.
Случай, устроивший странную судьбу мою, быть может, совершенно исключительный, но полоса смятений на Руси еще далеко не прошла: она, может быть, только едва в начале, и к тому времени, когда эти строки могут попасть в руки молодой русской девушки, готовящейся быть подругой и матерью, для нее могут потребоваться иные жертвы, более серьезные и тягостные, чем моя скромная и безвестная жертва: такой девушке я хотела бы сказать два слова, ободряющие и укрепляющие силой моего примера. Я хочу сказать, что страшных и непереносимых жертв нет, когда несешь их с сознанием исполненного долга. Несмотря на тяжелый во многих отношениях путь, на который я ступила, я никогда не чувствовала себя на нем несчастною свыше моих сил. В пожертвовании себя благу других есть такое неописанное счастие, которое дарит спокойствие среди всех нравственных пыток и мучений. А каждое усилие над собою дает душе новые силы, которым наконец сам удивляешься. Пусть мне в этом поверят. Я опытом убеждена и свидетельствую, что человек, раз твердо и непреклонно решившийся восторжествовать над своею земною природой и ее слабостями, получает неожиданную помощь оттуда, откуда он ждал ее, и помощь эта бывает велика, и могуча, и при ней душа крепнет, и закаляется до того, что ей уже нет страхов и смятений. Жизнь моя прошла не без тревог. Я отдала мужу моему все, что могла отдать того, чего у меня для него не было; я всегда была верна ему, всегда заботилась о доме, о его дочери и его собственном покое, но я никогда не любила его и, к сожалению, я не всегда могла скрыть это. Настолько душа и воля всегда оказывались безвластными над моею натурой. В первые годы моего замужества это было поводом к большим неприятностям и сценам, из которых одна угрожала трагическою развязкой. Муж, приписывая мою к нему холодность другому чувству, угрожал застрелить меня. Это было зимой, вечером, мы были одни при запертых окнах и дверях, спастись мне было невозможно, да я, впрочем, и сама не хотела спасаться. Жизнь никогда не казалась мне особенно дорогою и милою, а тогда она потеряла для меня всякую цену, и я встретила бы смерть, как высочайшее благо. Желание окончить с моим существованием минутами было во мне так сильно, что я даже рада была бы смерти, и потому, когда муж хотел убить меня, я, не укрощая его бешенства, скрестила на груди руки и стала пред пистолетом, который он взял в своем азарте. Но в это мгновение из двери вырвалась моя глухонемая падчерица Вера и, заслонив грудь мою своею головой, издала столь страшный и непонятный звук, что отец ее выронил из рук пистолет и, упав предо мною на колени, начал просить меня о прощении. С тех пор я свободна от всяких упреков и не встречала ничего, за что могла бы жаловаться на судьбу мою. Я любима людьми, которых люблю сама; я пользуюсь не только полным доверием, но и полным уважением моего мужа и, несмотря на клеветы насчет причин моего выхода за Синтянина, теперь я почти счастлива... Я была бы почти счастлива, совершая долг свой, если бы... я могла уважать моего мужа. Людские укоризны меня порой тяготят, но ненадолго. Поэт говорит: «кто все переведал, тот все людям простил». Живя на свете, я убедилась, что я была не права, считая безнатурным одного Висленева; предо мною скрылись с этой же стороны очень много людей, за которых мне приходилось краснеть. Все надо простить, все надо простить, иначе нельзя найти мира со своей совестью. Тайны моей не знает никто, кроме моего мужа, но к разгадке ее несколько приближались мать Висленева и друг мой Катерина Форова: они решили, что я вышла замуж за Синтянина из-за того, чтобы спасти Висленева!.. Бедные друзья мои! Они считают это возможным и они думают, что я могла бы это сделать! Они полагают, что я не поняла бы, что такою жертвой нельзя спасти человека, если он действительно любит и любил, а напротив, можно только погубить его и уронить себя! Нет, если бы дело шло о нем одном, я скорее бы понесла за ним его арестантскую суму, но не разбила бы его сердца! Какая Сибирь и какая каторга может сравниться с горем измены? Какие муки тяжелее и ужаснее нестерпимых мучений ревности? Я знаю эту змею... Нет! Я отдала себя за людей, которых я никогда не знала и которые никогда не узнают о моем существовании. Висленеву не принадлежит более ни одной капли моей любви: я полна к нему только одного сожаления, как к падшему человеку. Он не любил меня, он уступал меня свободе, и я потеряла любовь к нему за это оскорбление! Эта уступка меня моей свободе вычеркнула его из моего сердца раз и навсегда и без возврата. Скажу более: ревность мужа я вспоминаю гораздо спокойнее, чем эту постыдную любовь. Я чувствую и знаю, что могла снести все оскорбления лично мне, но не могла стерпеть оскорблений моего чувства. Это дело выше моих сил. Затем обязательства верности моему мужу я несу и, конечно, донесу до гроба ненарушимыми, хотя судьбе было угодно и здесь послать мне тяжкое испытание: я встретила человека, достойного самой нежной привязанности и... против всех моих усилий, я давно люблю его. Это случилось, повторяю, против моей воли, моих желаний и усилий не питать к нему ничего исключительного, но... Бог милосерд: он любит другую, годы мои уже уходят, и я усерднее всех помогаю любви его к другой женщине. Все нарушение обета, данного мною моему мужу, заключается в одном, и я этого не скрою: во мне... с той роковой поры, как я люблю... живет неодолимое упование, что этот человек будет мой, а я его... Я гоню от себя эту мысль, но она, как тень моя, со мной неразлучна, но я делаю все, чтоб ей не было возле меня места. О том, что я люблю его, он не знает ничего и никогда ничего не узнает».
В эту минуту Вера во сне рассмеялась и за стеной как бы снова послышался шорох.
Александра Ивановна вздрогнула, но тотчас же оправилась, подписала свое писанье, запечатала его в большой конверт и надписала:
«Духовный отец мой, священник Евангел Минервин, возьмет этот конверт к себе и вскроет его при друзьях моих после моей смерти и после смерти моего мужа».
Окончив эту надпись, Синтянина заперла конверт в ящик и, облокотясь на комод, стала у него и задумалась.
Глава шестнадцатая. Ходит сон, и дрема говорит.
Луна уже блекла и синела, наступала предрассветная пора, был второй час за полночь. Лампа на столе выгорела и стухла. Синтянина все стояла на одном и том же месте.
«Все это кончится, — думала она, — он женится на Ларе, и тогда...» Она задрожала и, хрустнув хладеющими руками, прошептала: «О Боже, Боже! И еще я же сама должна этому помогать... но ведь я тоже человек, в моей душе тоже есть ревность, есть эти страшные порывы к жизни. Неужто мало я страдала! Неужто... О, нет! Избавь, избавь меня от этого. Создатель! Пускай, когда я сплю, мне и во сне снится счастье. Все кончено! Зачем эти тревоги?
Я жизнь свою сожгла и лучше мне забыть о всем, что думалось прошедшею порой. Чего мне ждать? Ко мне не может прилететь уж вестник радости, или он будет... вестник смерти... Его я жду и встречу и уйду за ним.... Туда, где ангелы, где мученица Флора».
И в уме Александры Ивановны потянулась долгая, тупая пауза, он словно уснул, свободный от всех треволнений; память, устав работать, легла как занавес, сокрывший от зрителя опустелую сцену, и возобладавший дух ее унесся и витал в безмятежных сферах. Это прекрасное, легкое состояние, ниспосылаемое как бы в ослабу душе, длилось долго: свежий ветер предосеннего утра плыл ровным потоком в окно и ласково шевелил распущенной косой Синтяниной, целовал ее чистые щеки и убаюкивал ее тихим свистом, проходя сквозь пазы растворенной рамы. Природа дышала. И вот вздох один глубже другого: рама встряхнулась на петлях, задрожало стекло, словно кому-то тесно, словно кто-то спешит на свиданье, вот даже кто-то ворвался, вот сзади Синтяниной послышался электрический треск и за спиной у нее что-то блеснуло и все осветилось светло-голубым пламенем.
Александра Ивановна обернулась и увидала, что на полу, возле шлейфа ее платья, горела спичка.
Генеральша сообразила, что она, верно, зажгла спичку, наступив на нее, и быстро отбросила ее от себя дальше ногой; но чуть лишь блеснул на полете этот слабый огонь, она с ужасом ясно увидела очень странную вещь, скрытый портрет Флоры, с выколотыми глазами, тихо спускался из-под кутавшей его занавесы и, качаясь с угла на угол, шел к ней...
— Нет, Флора, не надо, не надо, уйди! — вскрикнула Синтянина, быстро кинувшись в испуге в противоположный угол, и тотчас же сама устыдилась своего страха и крика.
«Может быть, ничего этого и не было и мне только показалось, а я, между тем, подняла такой шум?» — подумала она, оправляясь.
Но между тем, должно быть, что-то было, потому что в спальне снова послышалось чёрканье спички, и два удара косточкой тонкого пальчика по столу возвестили, что Вера не спит.
Александра Ивановна оборотилась и увидела трепещущий свет; Вера сидела в постели и зажигала спичкой свечу.
«Не она ли и минуту тому назад зажгла и бросила спичку? Я, забывшись, могла и не слыхать этого, но... Господи! портрет действительно стоит пред столом! Он действительно сошел со стены и... он шел, но он остановился!»
Синтянина остолбенела и не трогалась.
Вера взяла в руки портрет и позвала мачеху.
— Зачем ты ее так оскорбила? — спросила она своими знаками генеральшу. — Это нехорошо, смотри, она тобой теперь огорчена.
Александра Ивановна вздрогнула, сделала два шага к Вере и, торопливо озираясь, сказала рукой:
— Куда ты заставляешь меня смотреть?
— Назад.
— Чего?.. Кто там? скажи мне: я робею...
— Гляди!.. Она оскорблена... Зачем ее бояться?
— Не пугай меня, Вера! Я сегодня больна! Я никого не оскорбила.
Но девочка все острей и острей глядела в одну точку и не обращала внимания на последние мачехины слова.
— Гляди, гляди! — показывала она, ведя пальцем руки по воздуху.
— Ах, отстань, Вера!.. Не пугай!..
— Я не пугаю!.. Я не пугаю... Она здесь... ты тихо, тихо стой... вот, вот... не трогайся... не шевелись... она идет к тебе... она возле тебя...
— Оставь, прошу тебя, оставь, — шептала генеральша, растерявшись, стыня от внезапного охватившего ее холодного тока.
— Какая добрая! — продолжала сообщать Вера и вдруг, задыхаясь, схватила мачеху за руку и сказала:
— Бери, бери скорей... она тебе дает... Ах, ты, неловкая!.. теперь упало!
И в это же мгновение по полу действительно что-то стукнуло и покатилось.
Александра Ивановна оглянулась вокруг и не видела ничего, что бы могло причинить этот стук, но Вера скользнула под стол, и Синтянина ощутила на пальце своей опущенной руки холодное кольцо.
Она подняла руку: да; ей это не казалось, — это было действительно настоящее кольцо, ровное, простое золотое кольцо.
Изумлению ее не было меры. Она торопливо взяла это кольцо и посмотрела внутрь: видно было, что здесь когда-то была вырезана надпись, но потом сцарапана ножом и тщательно затерта.
— Откуда же оно взялось?
Вера тихо указала пальцем на угол протертого полотна в портрете: тут теперь была прореха и с испода значок от долго здесь лежавшего кольца.
Синтянина пожала плечами и, глядя на Веру, которая вешала на место портрет, безотчетно опять надела себе на палец кольцо.
— Второй раз поздравляю тебя! — сказала, прыгнув ей на шею, Вера и поцеловала мачеху в лоб.
Александра Ивановна замахала руками и хотела сбросить кольцо; но Вера ее остановила за руку и погрозила пальцем.
— Это нельзя! — сказала она: — этого никак нельзя! никак нельзя!
И с этим девочка погасила свечу, чему Синтянина была, впрочем, несказанно рада, потому что щеки ее алели предательским, ярким румянцем, и она была так сконфужена и взволнована, что не в силах была сделать ничего иного, как добрести до кровати, и, упав головой на подушки, заплакала слезами беспричинными, безотчетными, в которых и радость, и горе были смешаны вместе, и вместе лились на свободу.
— Нет; тут вокруг нас гнездятся какие-то чары, — думала она засыпая. — В мою жизнь... мешается кто-то такой, про кого не снилось земным мудрецам... или я мешаюсь в уме! О, ангел мой! О, страдалица Флора! молись за меня! Зачем еще мне жить... жить хочется!
— И надо.
Молодая женщина вздрогнула и накрыла голову подушкой, чтобы ничего не слыхать.
А сон все ходит вокруг, и дрема? все ползет под подушку и шепчет: «жить надо! непременно надо!»
Коварный сон, ехидная дрема!
Глава семнадцатая. Черный день.
Утро осветило Александру Ивановну во сне, продлившемся гораздо долее обыкновенного. Она спала сладко, дышала полно, уста ее улыбались и щеки горели ярким румянцем. В таком положении застала ее Вера, вставшая, по обыкновению своему, очень рано и к этой поре уже возвратившаяся с своей далекой утренней прогулки. Она подошла к мачехе, посмотрела на нее и, поставив у изголовья генеральши стакан молока, провела по ее горячей щеке свежею озерною лилией. Холодный, густой и клейкий сок выбежал из чашки цветка и крупными, тяжелыми, как ртуть, каплями скатился по гладкой коже.
Синтянина открыла глаза и, увидав улыбающееся лицо падчерицы, сама отвечала ей ласковою улыбкой.
— Ты хорошо спала, — сказала ей своею ручною азбукой девушка. — Вставай, пора; довольно спать, пора проснуться.
Синтянина оперлась на локоть и, заглянув чрез дверь на залитую солнцем залу, вдруг беспричинно встревожилась.
Она еще раз посмотрела на Веру, еще раз взглянула на солнечный свет, и они оба показались ей странными: в косых лучах солнца было что-то зловещее, в них как будто что-то млело и тряслось.
Бывает такой странный свет: он гонит прочь покой нервозных душ и наполняет тяжкими предчувствиями душу.
Спокойное и даже приятное расположение духа, которым Александра Ивановна наслаждалась во сне, мгновенно ее оставило и заменилось тревожною тоской.
Она умылась, убрала наскоро голову и села к поданному ей стакану молока, но только что поднесла его ко рту, как глаза ее остановились на кольце и сердце вдруг упало и замерло.
Необыкновенного ничего не было: она только вспомнила про кольцо, которое ей так странно досталось, да в эту же секунду калитка стукнула немножко громче обыкновенного. Более ничего не было, но Александра Ивановна встревожилась, толкнула от себя стакан и бросилась бегом к окну.
По двору шла Форова: но как она шла и в каком представилась она виде? Измятая шляпка ее была на боку, платье на груди застегнуто наперекос, в одной руке длинная, сухая, ветвистая хворостина, другою локтем она прижимала к себе худой коленкоровый зонтик и тащила за собою, рукавами вниз, свое рыжее драповое пальто.
Она шла скоро, как летела, и вела по окнам острыми глазами.
— О, Боже мой! — воскликнула при этом виде Синтянина и, растворив с размаху окно, закричала: — Что сделалось... несчастие?
— Гибель, а не простое несчастие! — проговорила на бегу дрожащими губами Форова.
— О, говори скорей и сразу! — крикнула, рванувшись навстречу к ней, Синтянина: — Скорей и сразу!
— Подозеров убит! — отвечала Катерина Астафьевна, бросая в сторону свою хворостину и пальто и сама падая в кресло.
Генеральша взвизгнула, взялась за сердце и, отыскав дрожащею рукой спинку стула, тихо на него села. Она была бледна как плат и смотрела в глаза Форовой. Катерина Астафьевна, тяжело дыша, сидела пред нею с лицом, покрытым пылью и полузавешанным прядями седых волос.
— Что ж дальше? Говори: я знаю, за что это, и я все снесу! — шептала генеральша.
— Дай мне скорей воды, я умираю жаждой.
Синтянина ей подала воды и приняла назад из рук ее пустой стакан.
— Твой муж...
— Ну, да, ну что ж мой муж?.. Скорей, скорей!
— Удар, и пуля в старой ране опустилась книзу.
Стакан упал из рук Синтяниной и покатился по полу.
— Оба! — проговорила она и, обхватив голову руками, заплакала.
— Как был убит Подозеров и... что это такое, — заговорила, кряхтя и с остановками, Форова, — я этого не знаю... Ни от кого нельзя... добиться толку.
— Дуэль! Я так и думала, — прошептала генеральша, — я это чувствовала, но... меня обманули.
— Нет... Форов... говорит, убийство... Весь город... мечется... бежит туда... А твой Иван Демьяныч... встал нынче утром... был здоров и... вдруг пакет из Петербурга... ему советуют подать в отставку!
— Ну, ну же, Бога ради!
— За несмотрение... за слабость... за моего Форова с отцом Евангелом... будто они гордановских мужиков мутили. Иван Демьяныч как прочитал... так и покатился без языка.
— Скорей же едем! — и Александра Ивановна, накинув на себя суконный платок, схватила за руку Веру и бросилась к двери.
Форова едва плелась и не поспевала за нею.
— Ты на чем приехала сюда? — оборотилась к ней Синтянина.
— Все на твоей же лошади и... в твоей же карафашке.
— Так едем.
И Александра Ивановна, выбежав за ворота, вспрыгнула в тележку, втянула за собой Форову и Веру, и, повернув лошадь, погнала вскачь к городу.
Дорогой никто из них не говорил друг с другом ни о чем, но, переехав брод, Катерина Астафьевна вдруг вскрикнула благим матом и потянулась вбок с тележки.
Синтянина едва удержала ее за руку и тут увидала, что в нескольких шагах пред ними, на тряских извозчичьих дрожках ехал майор Форов в сопровождении обнимавшего его квартального.
— Мой Форов! Форов! — неистово закричала Катерина Астафьевна, между тем как Синтянина опять пустила лошадь вскачь, а Филетер Иванович вырвал у своего извозчика вожжи и осадил коня, задрав ему голову до самой Дуги.
Глава восемнадцатая. Форов делается Макаром, на которого сыпятся шишки.
Коренастый майор не только по виду был совершенно спокоен, но его и в самом деле ничто не беспокоило; он был в том же своем партикулярном сюртуке без одной пуговицы; в той же черной шелковой, доверху застегнутой жилетке; в военной фуражке с кокардой и с толстою крученою папироской.
— Торочка моя! Тора! Чего ты, глупая баба, плачешь? — заговорил он самым задушевным голосом, оборотясь на дрожках к жене.
— Куда?.. Куда тебя везут?
— Куда? А черт их знает, по началству, — пошутил он, по обыкновению, выпуская букву «ь» в слове «начальство».
— Поди сюда скорей ко мне! Поди, мой Форов!
— Сейчас, — ответил майор, и с этим повернулся по-медвежьи на дрожках.
Полицейский его остановил и сказал, что этого нельзя.
— Чего нельзя? — огрызнулся майор. — Вы еще не знаете, что я хочу делать, а уж говорите нельзя. Учитесь прежде разуму, а после говорите!
И с этим он спрыгнул с извозчика и подбежал к жене.
— Чего ты, моя дурочка, перепугалась? Пустое дело: спрос и больше ничего... Я скоро вернусь... и башмаки тебе принесу.
Катерина Астафьевна ничего не могла проговорить и только манила его к себе ближе и ближе, и когда майор придвинулся к ней и стал на колесо тележки ногой, она обняла левою рукой его голову, а правою схватила его руку, прижала ее к своим запекшимся губам и вдруг погнулась и упала совсем на его сторону.
— Вот еще горе! Ей сделалось дурно! Фу, какая гадость! — сказал майор Синтяниной и, оборотясь к квартальному, проговорил гораздо громче: — Прошу вас дать воды моей жене, ей дурно!
— Я не обязан.
— Что? — крикнул азартно Форов, — вы врете! Вы обязаны дать больному помощь! — и тотчас же, оборотясь к двум проходящим солдатам, сказал:
— Ребята, скачите в первый двор и вынесите скорей стакан воды: с майоршей обморок!
Солдатики оба бросились бегом и скоро возвратились с ковшом воды.
Синтянина стала мочить Катерине Астафьевне голову и прыскать ей лицо, а майор снова обратился к квартальному, который в это время сошел с дрожек и стоял у него за спиной.
— Вас бы надо по-старому поучить вашим обязанностям.
— Я вас прошу садиться и ехать со мной, — настаивал квартальный.
— А я не поеду, пока не провожу жену и не увижу ее дома, мой дом отсюда в двух шагах.
Занятая Форовой, Синтянина не замечала, что пред нею разгоралась опасная сцена, способная приумножить вины майора. Она обратила на это внимание уже тогда, когда увидала Филетера Ивановича впереди своей лошади, которую майор тянул под уздцы к воротам своего дома, между тем как квартальный заступал ему дорогу.
Вокруг уже была толпа зрителей всякого сорта.
— Прочь! — кричал Форов. — Не выводите меня из терпения. Закон больных щадит, и государственным преступникам теперь разрешают быть при больной жене.
— Вас вице-губурнатор ждет, — напирал на него квартальный, начиная касаться его руки.
— Пусть черт бы ждал меня, не только ваш вице-губернатор. Я не оставлю среди улицы мою жену, когда она больна.
— А я вам не позволю, — и квартальный, ободряемый массой свидетелей, взял Форова за руку.
Майор побелел и гаркнул: прочь! таким яростным толосом, что народ отступил.
— Отойдите прочь!.. Не троньте меня!
Квартальный держал за руку Форова и озирался, но в это мгновение черный рукав майорского сюртука неожиданно описал полукруг и квартальный пошатнулся и отлетел на пять шагов от нанесенного ему удара.
Квартальный крикнул и кинулся в толпу, которая, в свою очередь, шарахнулась от него и захохотала.
Уличная сцена окрашивалась в свои вековечные грязные краски, но, к счастию генеральши, занятая бесчувственною Форовой, она не все здесь видела и еще того менее понимала.
Освободясь от полицейского, майор сделал знак Александре Ивановне, чтобы она крепче держала его больную жену, а сам тихо и осторожно подвел лошадь к воротам своего дома, который действительно был всего в двадцати шагах от места свалки.
Ворота форовского дома не отворялись: они были забиты наглухо и во двор было невозможно въехать. Катерину Астафьевну приходилось снести на руках, и Форов исполнил это вместе с теми же двумя солдатами, которые прислужились ему водой.
Тихо, осторожно и ловко, с опытностию людей, переносивших раненых, они внесли недышащую Катерину Астафьевну в ее спальню и положили на кровать.
Синтянина была в большом затруднении, и затруднение ее с каждой минутой все возрастало, потому что с каждою минутой опасность увеличивалась разом в нескольких местах, где она хотела бы быть и куда влек ее прямой долг, но Форова была бездыханна, и при ее кипучей душе и не знающих удержу нервах ей грозила большая опасность.
Генеральша, скрепя сердце, ринулась к больной, расстегнула ей платье и стала тереть ей уксусом лоб, виски, грудь, а в это же время скороговоркой расспрашивала Форова о происшедшем.
— За что они дрались?
— Ну, это все после, после, — отвечал майор.
— Но во всяком случае это была дуэль?
— Нет; не дуэль — убийство!
— Прошу вас говорить ясней.
— Это было убийство... самое подлое, самое предательское убийство.
— Но кто же убил?
— Мерзавцы! Разве вы не видите, кто на все способен? ведь за все, бездельники, берутся, даже уж в спириты лезут: ни от чего отказа, и из всего выходят целы.
— Подозеров наповал убит?
— Пулей в грудь, под пятое ребро, навылет в спину, но полчаса тому назад, когда я от него вышел, он еще дышал.
Синтянина благодарно перекрестилась.
— Но все равно, — махнул рукой майор, — рана мертвая.
— И он теперь один?
— Нет, там осталась Лариса.
— Лариса там? Что же с нею, бедной? Форов процедил сквозь зубы:
— Что с ней?.. Рвет волосы, ревет и, стоя на коленях в ногах его постели, мешает фельдшеру.
— А Горданов?
— Ранен в пятку.
— Да время ль теперь для шуток, Филетер Иваныч?
— Я не шучу. Горданов ранен в пятку.
— Значит, Подозеров стрелял?
— Нимало.
Майор оглянулся и, увидав у двери снова появившегося квартального, прошептал на ухо генеральше:
— Эту пулю ему, подлецу, я засадил.
— Господи! что же это такое у вас было?
— Ну, что это было? Ничего не было. После узнаете: видите, вон птаха-квартаха торчит и слушает, а вот и, слава Богу, Торочка оживает! — молвил он, заметив движение век у жены.
— Это была бойня! — простонала, едва открывая свои глаза, Форова.
— Ну, Торочка, я и в поход... — заторопился майор и поцеловал женину руку.
Катерина Астафьевна смотрела на него без всякого выражения.
— И я, и я тебя оставлю, Катя, — рванулась Синтянина.
— Иди... но... попроси... ты за него... Ты генеральша... тебя все примут..
— Ничего не надо, — отказался Форов.
И они с Синтяниной вышли.
— Меня арестуют, — заговорил он, идучи по двору, — дуэль, плевать, три пятницы молока не есть: а вы... знайте-с, что поп Евангел уже арестован, и мы смутьяны... в бунте виноваты... Так вы, когда будет можно... позаботьтесь о ней... о Торочке.
— Ах, Боже! разом столько требующих забот, что не знаешь куда обернуться! Но не падайте же и вы духом, Филетер Иваныч!
— Из-за чего же? Ведь два раза не повесят.
— Все Бог устроит; а теперь молитесь Ему о крепости душевной.
— Да зачем Его и беспокоить такою малостью? Я исполнил свой долг, сделал, что мне следовало сделать, и буду крепок... А вон, глядите-ка, — воскликнул он в калитке, увидя нескольких полицейских, несшихся взад и вперед на извозчиках. — Все курьеры, сорок пять тысяч курьеров; а когда, подлецы, втихомолку мутят да каверзят, тогда ни одного протоканальи нигде не видать... Садись! — заключил он, грубо крикнув на квартального.
Но квартальный оборотился к Синтяниной с просьбой быть свидетельницей, что Форов его ударил.
— Ах, идите вы себе, пожалуйста! Какое мне до вас дело, — отвечала, вспрыгнув в тележку, Синтянина и, горя нетерпением, шибко поехала к своему дому.
— А ты, любезный, значит не знаешь китайского правила: «чин чина почитай»? Ты смеешь просить генеральшу? Так вот же тебе за это наука!
И с этим Форов сел сам на дрожки, а квартального поставил в ноги между собой и извозчиком и повез его, утешая, что он так всем гораздо виднее и пригляднее.
Обгоняя Синтянину, Форов кивнул ей весело фуражкой.
— Ах, твори Бог свою волю! — прошептала генеральша, глядя вслед удалявшемуся Форову и еще нетерпеливее погоняя лошадь к дому.
Глава девятнадцатая. Несколько строк для объяснения дела.
Положение дел нашей истории, дозволяющее заключить эту часть романа рассказанными событиями, может возбудить в ком-нибудь из наших читателей желание немедленно знать несколько более, чем сколько подневольное положение майора Форова дозволило ему открыть генеральше Синтяниной.
Как из дуэли вышла совсем не дуэль, а убийство, и почему Форов стрелял Горданову, как он выразился, в пятку?
Мы имеем возможность удовлетворить этому желанию, не рискуя таким образом предупредить события в предстоящем им развитии, и спешим служить этою возможностию лицам, заинтересованным судьбой наших героев.
После того как Филетер Иванович Форов расставил дуэлистов на месте и, педантически исполняя все обычаи поединка, еще раз предложил им примириться, ни Горданов, ни Подозеров не ответили ему ни слова.
— За что я должен принять ваше молчание? — осведомился Форов.
— Пусть он просит прощенья, — отвечал Горданов хладнокровно, целя в одинокую белую березку.
— Я вас прошу, распоряжайтесь, скорее стрелять! — проговорил едва слышно Подозеров.
Форов ничего иного и не ожидал.
— Извольте же готовиться! — сказал он громко и, сделав шаг к Подозерову, шепнул: — кураж, кураж! и стойте больше правым боком... Глядите, он, каналья, как стоит. Ну, защити Бог правого!
Подозеров молча кивал в знак согласия головой, но он ничего не слыхал. Он думал совсем о другом. Он припоминал ее, какою она вчера была в осиннике, и... покраснел от мысли, что она его любит.
— Неужто это так?.. но кажется... да.
Умирать с такою уверенностью в любви такой женщины, как генеральша, и умирать в высочайшую минуту, когда это счастие только что сознано и ничем не омрачено — это казалось Подозерову благодатью, незаслуженно заключающей всю его жизнь прекрасной страницей.
Он послал благословение ей за эту смерть; вспомнил о Боге, но не послал Ему ни просьб, ни воздыхания и начал обеими руками поднимать пистолет, наводя его на Горданова как пушку.
Такой прием с оружием не обещал ничего доброго дуэлисту, и Форов это понимал, но делать было уж нечего, останавливаться было не время, да и Андрей Иваныч, очевидно, не мог быть иным, каким он был теперь.
— Извольте же! — возгласил еще раз Форов и, оглянувшись на высматривавшего из-за куста Висленева, стал немного в стороне, на половине расстояния между поединщиками. — Я буду говорить теперь вам: раз и два, и три и вы по слову «три» каждый спустите курок.
— Ладно, — отвечал, надвинув на лоб козырек фуражки, Горданов.
Подозеров молчал и держал свою пушку пред противником, по-видимому, не желая глядеть ему в лицо.
— Теперь я начинаю, — молвил майор, точно фотограф, снимающий шапочку с камерной трубы, дал шаг назад и, выдвинув вперед руку с синим бумажным платком, громко и протяжно скомандовал: р-а-з, д-в-а и... Выстрел грянул.
Пистолет Горданова дымился, а Подозеров лежал навзничь и трепетал, как крылами трепещет подстреленная птица.
— Подлец! — заревел ошеломленный майор: — я говорил, что тебе быть от меня битым! — и он, одним прыжком достигнув Горданова, ударил его по щеке, так что тот зашатался. — Секундант трус! Ставьте на место убийцу, выстрел убитого теперь мой!
И с этим майор подбежал к лежащему на земле Подозерову и схватил его пистолет, но Горданова уже не было на месте: он и Висленев бежали рядом по поляне.
— А! так вот вы как! презренная мразь! — воскликнул майор и выстрелил.
Беглецы оба упали: Горданов от раны в пятку, а Висленев за компанию от страха. Через минуту они, впрочем, также оба вместе встали, и Висленев, подставив свое плечо под мышку Горданова, обнял его и потащил к оставленному под горой извозчику.
Форов остался один над Подозеровым, который слабо хрипел и у которого при каждом незаметном вздохе выступало на жилете все более и более крови.
Майор расстегнул жилет Андрея Ивановича, нащупал кое-как рану и, воткнув в нее ком грубой корпии, припасенной им про всякий случай в кармане, бросился сам на дорогу.
Невдалеке он заарестовал бабу, ехавшую в город с возом молодой капусты и, дав этой, ничего не понимавшей и упиравшейся бабе несколько толчков, насильно привел ее лошадь к тому месту, где лежал бесчувственный Подозеров. Здесь майор, не обращая внимания на кулаки и вопли женщины, сбросив половину кочней на землю, а из остальных устроил нечто вроде постели и, подняв тяжело раненного или убитого на свои руки, уложил его на воз, дал бабе рубль, и Подозерова повезли.
Майор во все время пути стоял на возу на коленях и держал голову Подозерова, помертвелое лицо которого начинало отливать синевой, несмотря на ярко освещавшее его солнце.
Этот восьмикерстный переезд на возу, который чуть волокла управляемая бабой крестьянская кляча, показался Форову за большой путь. С седой головы майора обильно катились на его загорелое лицо капли пота, и, смешиваясь с пылью, ползли по его щекам грязными потоками. Толстое, коренастое тело Форова давило на его согнутые колени, и ноги его ныли, руки отекали, а поясницу ломило и гнуло. Но всего труднее было переносить пожилому майору то, что совершалось в его голове.
«Какая мерзость! Нет-с; какая неслыханная мерзость! — думал он. — Какая каторжная, наглая смелость и какой расчет! Он шел убить человека при двух свидетелях и не боялся, да и нечего ему было бояться. Чем я докажу, что он убил его как злодей, а не по правилам дуэли? Да первый же Висленев скажет, что я вру! А к этому же всему еще эта чертова ложь, будто я с Евангелом возмущал его крестьян. Какой я свидетель? Мне никто не поверит!»
При этом майор начал делать непривычные и всегда противные ему юридические соображения, которые не слагались и путались в его голове.
«Поведения я неодобрительного, — высчитывал майор, — известно всем, что я принимаю на нутро, ненавижу приказных, часто грублю разному начальству, стремлюсь, по общему выражению, к осуществлению несбыточных мечтаний и в Бога не верую... То есть черт меня знает, что я такое! Что тут возьмешь с такою аттестацией? Всякий суд меня засудит!.. И надеяться не на что. Разве на Бога, как надеется моя жена. Да; ведь истинно более не на кого! Свидетели! — да кто же, какой черт велит подлецу, задумавши гадость, непременно сделать ее при свидетелях? Нет; это даже страшно, во что нынче обернулись эти господа: предусмотрительны, расчетливы, холодны... Неуязвимы ничем? В спириты идут; в попы пойдут... в монахи пойдут. Отчего же не пойдут? пойдут. Это уж начинается иезуитство. В шпионы пойдут... В шпионы!.. Да кто же взаправду Горданов? О, о-о! Нет, видно, прав поп Евангел, если Бог Саваоф за нас сверху не вступится, так мы мир удивим своею подлостию!»
И с этими-то мыслями майор въехал на возу в город; достиг, окруженный толпой любопытных, до квартиры Подозерова; снес и уложил его в постель и послал за женой, которая, как мы помним, осталась в эту ночь у Ларисы. Затем Форов хотел сходить домой, чтобы сменить причинившее ему зуд пропыленное белье, но был взят.
Горданов был гораздо счастливее. Он был уверен, что убил Подозерова, и исход дела предвидел тот же, какой мерещился и Форову, но с тою разницей, что для Горданова этот исход был не позором, а торжеством.
Павел Николаевич лежал на мягком матрасе, в блестящем серебристом белье; перевязка его позорной раны в ногу не причинила ему ни малейшей боли и расстройства, и он, обрызганный тонкими духами, глядел себе на розовые ногти и видел ясно вблизи желанный край своих стремлений.
Под подушкой у него было письмо княгини Казимиры, которая звала его в Петербург, чтобы «сделать большое дело!».
Бодростин был поставлен своими друзьями как шашка на кон, да притом и вместе с самою Бодростиной: княгиня Казимира вносила совсем новый элемент в жизнь.
— Гм! гм! однако у меня теперь уж слишком большой выбор! — утешался.
Горданов и расстилал пред собою большой замысел, которому все доселе бывшее должно служить не более как прелюдией.
Начав ползком, как кот, подкрадываться к цели, Горданов чувствовал уж теперь в своих когтях хвосты тех птиц, в которых хотел впиться. Теперь более чем когда-либо окрепло в нем убеждение, что в нашем обществе все прощено и все дозволено бесстыдной наглости и лицемерием прикрытому пороку.
Ошибался или не ошибался в этом Горданов — читатели увидят из следующей части нашего романа.
«На ножах».
Часть первая. Боль врача ищет.
Часть вторая. Бездна призывает бездну.
Часть третья. Кровь.
Часть четвертая. Мертвый узел.
Часть пятая. Темные силы.
Часть шестая. Через край.
Эпилог.
Примечания.
Художественный фильм, 1-5 серии.
Художественный фильм, 6-11 серии.
|