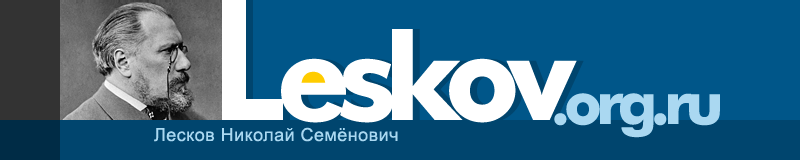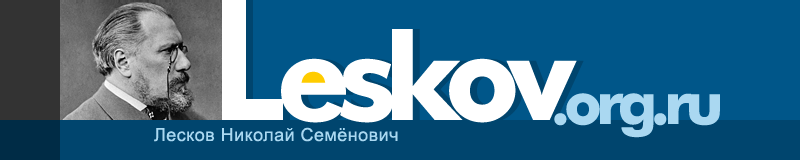|
Некуда.
Книга вторая. В Москве.
Глава четвертая. Свои люди.
Некуда. Книга первая. В провинции.
Главы: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31
Книга вторая. В Москве.
Главы: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
Книга третья. На Невских берегах.
Главы: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25
Наступил вечер великого дня, в который Арапов должен был ввести Розанова к своим людям и при этом случае показать чужого человека.
Это был тяжелый, серый день, без утреннего рассвета и вечерних сумерек; день, непосредственно сменяющий замешкавшуюся ночь и торопливо сгоняемый другою ночью.
Арапов был не в духе. Его что-то расстроило с самого утра, и к тому же он, как человек очень нервный, был весьма чувствителен к атмосферным влияниям.
– Идемте, – сухо сказал он Розанову, взойдя к нему в семь часов вечера.
И они пошли.
Выйдя за ворота, Розанов хотел взять извозчика, но Арапов сказал, что не надо.
Они держали путь прямо к старому казенному зданию.
– Здесь нам надо повидать одного человека, – говорил Арапов, входя под темную арку старого здания.
«Юлия, или Подземелья замка Мадзини» и все картинные ужасы эффектных романов леди Редклиф вставали в памяти Розанова, когда они шли по темным коридорам оригинального дворца. Взошли в какую-то круглую комнату, ощупью добрались до одной двери – и опять коридор, опять шаги раздаются как-то страшно и торжественно, а навстречу никого не попадается. Потом пошли какие-то завороты, лесенки и опять снова коридор. В темноте, да для человека непривычного – точные катакомбы. Наконец впереди мелькнуло серое пятно: это была выходная дверь на какой-то дворик.
Приближаясь к этому выходу, Розанов стал примечать, что по сторонам коридора есть тоже двери, и у одной из них Арапов остановился и стукнул три раза палкой.
В ответ на этот стук послышались сначала очень глухие шаги, потом они раздались близко, и, наконец, дверь отворилась.
Перед посетителями стоял солдат с сальною свечою в руках.
– Дома? – спросил Арапов, бесцеремонно проходя мимо солдата.
– Никак нет, ваше благородие, – ответил денщик.
– Ну, все равно: дай мне, Трошка, огня, я напишу ему записочку.
Солдатик пошел на цыпочках, освещая сальною свечкою длиннейшую комнату, в окна которой светил огонь из противоположного флигеля. За первою комнатою начиналась вторая, немного меньшая; потом третья, еще меньшая и, наконец, опять большая, в которой были растянуты длинные ширмы, оклеенные обойною бумагою.
Везде было очень пусто, даже почти совсем пусто, и только поразительнейший беспорядок последнего покоя придавал ему несколько жилой вид.
– Господин Райнер был у вас нынче? – спросил Арапов.
– Это француз?
– Француз.
– Были-с.
– А черт дома? – спросил еще Арапов, садясь за стол, который столько же мог назваться письменным, сколько игорным, обеденным или даже швальным.
Здесь в беспорядке валялись книги, бумага, недошитый сапог, разбитые игорные карты и тут же стояла тарелка с сухарями и кровяной колбасой, бутылка с пивом и чернильница.
Арапов велел позвать к себе «черта» и оторвал кусок бумаги от какой-то тетради; а Розанов присел было на придвинутое к столу кресло, но тотчас же вместе с ним полетел на пол.
– Садитесь на диван; оно без ножки, – проговорил, засмеявшись, Арапов и опять стал писать.
Из двери, в которую исчез денщик, сопя и покачиваясь, выступила тяжелая, массивная фигура в замасленном дубленом полушубке.
– Это ты, черт? – спросил, не оборачиваясь, Арапов.
– Я-с, – произнесла сиплым голосом фигура.
– Отыщи ты сейчас капитана.
– Слушаю-с.
– Ты знаешь, где он?
– Нет, не знаю-с.
– Ну, разыщи.
Арапов стал складывать записку, а доктор рассматривал стоящего у двери «черта».
Бог знает, что это было такое: роста огромного, ручищи длинные, ниже колен, голова как малый пивной котел, говорит сиплым басом, рот до ушей и такой неприятный, и подлый, и чувственный, и холодно-жестокий.
– На, и иди, – сказал Арапов, подавая «черту» записку, после чего тот сейчас же исчез за дверью.
– У кого это мы были? – спрашивал Арапова Розанов, выходя из-под темной арки на улицу.
– Узнаете, – нехотя ответил Арапов.
– А что это за черт?
– А это, батюшка, артист: иконописанием занимался и бурлаком был, и черт его знает, чем он не был.
– А теперь что он тут делает?
– Ничего, – папиросы нам делает, да паспорта себе ожидает с того света, – отвечал, улыбнувшись, Арапов.
Розанов видел, что «черт» одна из тех многочисленных личностей, которые обитают в Москве, целый век таясь и пресмыкаясь, и понимал, что этому созданию с вероятностью можно ожидать паспорта только на тот свет; но как могли эти ручищи свертывать и подклеивать тонкую папиросную гильзу – Розанов никак не мог себе вообразить, однако же ничего не сказал угрюмому Арапову.
По трехпогибельному тротуару одной из недальних улиц Розанов вместе с Араповым дошли до парадного подъезда одного очень опрятного домика и по чистенькой лесенке, освещенной медною лампочкою, вошли в тепленькую и опрятную квартиру.
Пока человек брал их верхнее платье, в довольно ярко освещенном зальце показался весьма миловидный молодой офицер в несколько длинноватом сюртуке.
В то время некоторое удлинение пол против форменного покроя в известных военных кружках считалось признаком благовоспитанности, солидного либерализма и порядочности.
– Хозяин дома, Казимир Викентьевич Рациборский, – сказал Розанову Арапов, – вам честь имею рекомендовать Дмитрия Петровича Розанова, – добавил он, обращаясь к хозяину.
Рациборский очень любезно пожал руку Розанова и поблагодарил его за знакомство.
– Что ж, никого еще нет? – спросил Арапов, когда они перешли из маленького зальца в столь же маленькую и уютную гостиную.
– Нет, кое-кто есть, – отвечал Рациборский.
– До «швахов» еще долго?
– Да, теперь в начале восьмой; раньше восьми никто не будет, – отвечал скромно хозяин.
Вообще все его слова и манеры были как нельзя более под стать его сюртуку, красноречиво говорили о его благовоспитанности и с первого же раза располагали в его пользу.
– Так время дорого, – заметил Арапов.
– Да, – произнес, улыбаясь, Рациборский, – оно всегда дорого, – и не спеша добавил: – Позвольте попросить вас, господин Розанов, в мою рабочую комнату.
Все втроем они перешли по мягкому ковру в третью комнатку, где стояла кровать хозяина и хорошенькая спальная мебель.
Рациборский подошел к приставленному у стены шкафу красного дерева и не повернул, а подавил внутрь вложенный в двери ключ.
Шкаф открылся и показал другую дверь, которую Рациборский отпер, потянув ключ на себя.
За второю дверью висело толстое зеленое сукно.
Рациборский отдернул за шнурок эту плотную занавеску, и они вошли в большую, ярко освещенную комнату, застланную во весь пол толстым плетеным ковром и с окнами, закрытыми тяжелыми шерстяными занавесками.
Убранство этой комнаты было также весьма мило и изящно, но придавало покою какой-то двойственный характер. Вдоль всей стены, под окнами, стоял длинный некрашеный стол, в котором были в ряд четыре выдвижные ящика с медными ручками. На этом столе помещалось несколько картонных коробок для бумаг, небольшая гальваническая батарея, две модели нарезных пушек, две чертежные доски с натянутыми на них листами ватманской бумаги, доска с закрытым чертежом, роскошная чернильница, портрет Лелевеля, портрет Герцена и художественно исполненная свинцовым карандашом женская головка с подписью:
То Litwinka, dziewica bohater,
Wodz Powstancow: Emilia Plater.[35]
Над столом еще висел портретик прекрасной молодой женщины, под которым из того же поэта можно было бы написать:
I nie potrzeba tlumaczyc
Co chcc slyszeyc, со zobaczyc.[36]
Стол освещался большою солнечною лампою.
Далее, в углублении комнаты, стояли мягкий полукруглый диван и несколько таких же мягких кресел, обитых зеленым трипом. Перед диваном стоял небольшой ореховый столик с двумя свечами. К стене, выходившей к спальне Рациборского, примыкала длинная оттоманка, на которой свободно могли улечься два человека, ноги к ногам. У четвертой стены, прямо против дивана и орехового столика, были два шкафа с книгами и между ними опять тяжелая занавеска из зеленого сукна, ходившая на кольцах по медной проволоке.
– Господа! позвольте мне представить вам новое лицо, которое вы должны принять по-братски, – произнес Рациборский, подводя Розанова за руку к столику, перед которым сидели четыре человека.
Гости встали и вежливо поклонились вошедшим.
– Студент Каетан Слободзиньский с Волыня, – рекомендовал Розанову Рациборский, – капитан Тарас Никитич Барилочка, – продолжал он, указывая на огромного офицера, – иностранец Вильгельм Райнер и мой дядя, старый офицер бывших польских войск, Владислав Фомич Ярошиньский. С последним и вы, Арапов, незнакомы: позвольте вас познакомить, – добавил Рациборский и тотчас же пояснил: – Мой дядя соскучился обо мне, не вытерпел, пока я возьму отпуск, и вчера приехал на короткое время в Москву, чтобы повидаться со мною.
– Да, давно юж не виделись, захотел повидеться, – проговорил бывший офицер польских войск, пожав руки Арапову и Розанову.
Райнер поклонился Розанову, как совершенно незнакомому человеку, и, отойдя, стал у рабочего стола Рациборского.
Арапов сказал Барилочке, что они сейчас заходили к нему и послали за ним «черта», и тотчас же завязал разговор с Ярошиньским, стараясь держаться как-то таинственно, и решительно, и ловко.
Розанов присел на конце длинной оттоманки и стал рассматривать комнату и лиц, в ней находящихся.
Из неодушевленной обстановки он заметил то, что мы упомянули, описывая физиономию рабочего покоя Рациборского. Розанов знал, в какую сферу его вводит новое знакомство, и обратил свое внимание на живых людей, которые здесь присутствовали.
Капитан Барилочка был хохол нехитрой расы, но тип, прямо объясняющий, «звиткиля вон узявся». Если бы Барилочку привезти на полтавскую или на роменскую ярмарку, то непременно бы заговорили: «Дывись, дывись от цэ, як вырядився Фонфачки сынок, що з Козельце».
Капитан был человек крупный, телесный, нрава на вид мягкого, веселого и тоже на вид откровенного. Голос имел громкий, бакенбарды густейшие, нос толстый, глазки слащавые и что в его местности называется «очи пивные». Усы, закрывавшие его длинную верхнюю губу, не позволяли видеть самую характерную черту его весьма незлого, но до крайности ненадежного лица. Лет ему было под сорок.
Студент Слободзиньский был на вид весьма кроткий юноша – высокий, довольно стройный, с несколько ксендзовским, острым носом, серыми умными глазами и очень сдержанными манерами. Ему было двадцать два, много двадцать три года.
Офицер польских войск была фигура показная. Это был тип старопольского пана средней руки. Он имел на вид лет за пятьдесят, но на голове у него была густая шапка седых, буйно разметанных волос. Подбородок его и щеки были тщательно выбриты, а рот совсем закрывался седыми усищами, спускавшимися с углов губ длинными концами ниже челюстей. Высокий, умный, но холодный лоб Ярошиньского был правильно подлиневан двумя почти сходившимися бровями, из которых еще не совсем исчез черный волос молодости, но еще более молодости было в черных, тоже очень умных его глазах. Манеры Ярошиньского были вкрадчивые, но приятные. Одет он был в суконную венгерку со шнурами и руки почти постоянно держал в широких шароварах со сборами.
Не успел доктор осмотреть эти лица, на что было истрачено гораздо менее времени, сколько израсходовал читатель, пробежав сделанное мною описание, как над суконною занавесою, против дивана, раздался очень тихий звонок.
– Швахи наступают, – произнес, обращаясь к Рациборскому, Арапов.
Рациборский ничего не ответил, но тотчас же вышел в дверь через свою спальню.
Райнер все стоял, прислонясь к столу и скрестя на груди свои сильные руки; студент и Барилочка сидели молча, и только один Арапов спорил с Ярошиньским.
– Нет-с, – говорил он Ярошиньскому в то время, когда вышел Рациборский и когда Розанов перестал смотреть, а начал вслушиваться. – Нет-с, вы не знаете, в какую мы вступаем эпоху. Наша молодежь теперь не прежняя, везде есть движение и есть люди на все готовые.
– Оповядал мне Казя, оповядал, и шкода мне этих людзей, если они есть такие.
– Как же вы жалеете их? Нужно же кому-нибудь гибнуть за общее дело. Вы же сами сражались ведь за свободу.
– О, да! Мы стары люди: мы не терезнейших… Мы не тэпершнейшего веку, – снисходительно говорил Ярошиньский.
– Да ведь вот то-то и есть несчастье Польши, что она России не знает и не понимает.
– Вот этое что правда, то правда, – подтвердил поляк, зная, что уста его надежно декорированы усами, сквозь которые ничей глаз не заметит презрительно насмешливой улыбки.
– А вот перед вами сколько человек? Один, два, три… ну, четвертый, положим, поляк… и все одного мнения, и все пойдем и ляжем…
Под седыми усами, вероятно, опять что-то шевельнулось, потому что Ярошиньский не сразу заговорил:
– Обронь вас боже, Панове. Я и Казю прусил и тебе говору, Каетанцю, – обратился он к студенту, – не руштесь вы. Хъба еще мало и польской и российской шляхетной крови пролялось. Седьте тихо, посядайте науки, да молите пана Бога. Остружность, велика остружность потребна в такей поре. Народ злый стал. Цо я тутай слышал от Кази и что вы мне говурите, я разумею за дзецинады… за детинство, – пояснил Ярошиньский, очень затрудняясь набором русских слов. – Але як вы можйте так зврацать увагу на иньших людзей! Який кольвек блазень, який кольвек лёкай, хлоп, а наигоржей хлоп тыле людзей може загубить, же сам и сотки од них не варт.
– О нет-с! Уж этого вы не говорите. Наш народ не таков, да ему не из-за чего нас выдавать. Наше начало тем и верно, тем несомненно верно, что мы стремимся к революции на совершенно ином принципе.
В комнату снова вошел Рациборский и, подойдя к Арапову, подал ему сложенную бумажку.
– Что это?
– Верно, ваше письмо.
– Какое?
– «Черт» принес, Тараса Никитича отыскивал.
– Вы сказали, что его нет?
– Да, сказал, что нет.
– А там кто у вас?
– Никого еще пока: это «черт» звонил.
– Со to za nazwisko ciekawe? Powiedz mnie, Kaziu, prosze ciebie, – произнес удивленный старик, обращаясь к племяннику. – Со to jest takiego: chyba juz doprawdy wy i z diablami tutaj poznajomiliscie?[37] – добавил он, смеючись.
– Да это вот они, мужики, одного «чертом» зовут, – отвечал по-русски Рациборский.
– То-то, а я, як провинцыял, думаю, что может тутейшая наука млодых юж и дьябла до эслуг сйбе забрала, – проговорил, опять играя, старик.
Над занавескою снова раздался мелодический звон, и Рациборский опять ушел через свою спальню.
– Гости? – спросил старик Арапова.
– Верно, гости.
– Всё такие, як и вы?
– Нет, там всякие бывают: мы их зовем «швахами».
– Ну, так я к ним; беседуйте себе, – я мое сделал, лучше волю не слышать, ежели не хотите меня послухать, – проговорил шутя старик и поднялся.
Проходя мимо Арапова, он потрепал его, на старческом праве, по плечу и тихо проронил со вздохом:
– Ох, глува, глува горячая, недаром тебе згинуты.
Совершив свою манипуляцию и пророческое предсказание над головою Арапова, Ярошиньский ушел в ту же дверь, в которую перед тем вышел его племянник.
Над занавескою опять прозвонило, и вслед за тем голос Рациборского произнес в комнате:
– Идите кто-нибудь, много чужих.
Розанов с изумлением оглядел комнату: Рациборского здесь не было, а голос его раздавался у них над самым ухом.
Арапов и Барилочка расхохотались.
– Механика, батюшка, – произнес Арапов с видом авторитетного старейшинства, – камения глаголят.
В двери, которою до сих пор входили, показался Рациборский и сказал:
– Идите, господа, понемножку; идите вы, Тарас Никитич.
Барилочка встал и исчез за занавескою, над которой по временам раздавался тоненький звон серебряного колокольчика.
– Чего вы сметесь, Арапов? – спросил Рациборский.
Арапов рассказал в смешном виде розановское удивление при звонках и таинственном зове и вышел из этой комнаты.
– Это простая вещь, я виноват, что не рассказал вам ранее, – любезно проговорил Рациборский. – Я живу один с человеком, часто усылаю его куда-нибудь, а сам сижу постоянно за работою в этой комнате, так должен был позаботиться о некоторых ее удобствах. Отсюда ничего не слышно; этот ковер и мебель удивительно скрадывают звуки, да я и сам заботился, чтобы мне ничто не мешало заниматься; поэтому звонок, который вы здесь слышите, просто соединен, на случай выхода слуги, с наружным колокольчиком. А голос… это просто… видите, – Рациборский подошел к открытому медному отдушнику и пояснил: – это не в печке, а в деревянной стене, печка вот где. Это я сделал, чтобы знать, кто приходит, потому что иногда нет покоя от посетителей. Когда тот конец открыт, здесь все слышно, что говорится в передней. Вы извините, пожалуйста, что я не предупредил вас, здесь нет никаких тайн, – проговорил Рациборский и, пригласив гостей идти в общие комнаты, вышел.
За Рациборским тотчас же ушел за занавеску под звонком Слободзиньский.
Розанов остался один с Райнером.
– Как вам живется, Райнер? – осведомился доктор.
– Благодарю. Какими вы здесь судьбами?
Розанов наскоро сообщил цель своего приезда в Москву и спросил:
– Зачем вы меня не узнали?
– Так, я не сообразил, как мне держаться с вами: вы вошли так неожиданно. Но мы можем сделать вид, что слегка знакомы. Секрет не годится: Пархоменко все сболтнет.
– Да и здесь, может быть, стены слышат, что мы говорим с вами, – прошептал ему на ухо Розанов.
– Идемте однако, – сказал Райнер.
– Пойдемте.
– Нет, вместе нельзя; идите вы вперед, вот в эту дверь: она ведет в буфет, и вас там встретит человек.
Розанов отодвинул занавеску, потом отворил дверь, за нею другую дверь и вышел из шкафа в чистенькую каморочку, где стояла опрятная постель слуги и буфетный шкаф.
Его встретил слуга и через дверь, сделанную в дощатой перегородке, отделявшей переднюю от буфета, проводил до залы.
По зале ходили два господина. Один высокий, стройный брюнет, лет двадцати пяти; другой маленький блондинчик, щупленький и как бы сжатый в комочек. Брюнет был очень хорош собою, но в его фигуре и манерах было очень много изысканности и чего-то говорящего: «не тронь меня». Черты лица его были тонки и правильны, но холодны и дышали эгоизмом и безучастностью. Вообще физиономия этого красивого господина тоже говорила «не тронь меня»; в ней, видимо, преобладали цинизм и половая чувственность, мелкая завистливость и злобная мстительность исподтишка. Красавец был одет безукоризненно и не снимал с рук тонких лайковых перчаток бледно-зеленого цвета.
Блондинчик, напротив, был грязноват. Его сухие, изжелта-серые, несколько волнистые волосы лежали весьма некрасиво; белье его не отличалось такою чистотою, как у брюнета; одет он был в пальто без талии, сшитое из коричневого трико с какою-то малиновою искрой. Маленькие серые глазки его беспрестанно щурились и смотрели умно, но изменчиво. Минутою в них глядела самонадеянность и заносчивость, а потом вдруг это выражение быстро падало и уступало место какой-то робости, самоуничижению и задавленности. Маленькие серые ручки и сморщенное серое личико блондина придавали всему ему какой-то неотмываемо грязный и неприятный вид. Словно сквозь кожистые покровы проступала внутренняя грязь.
Розанов, проходя, слегка поклонился этим господам, и в ответ на его поклон брюнет отвечал самым вежливым и изысканным поклоном, а блондин только прищурил глазки.
В гостиной сидели пан Ярошиньский, Арапов, хозяин дома и какой-то рыжий растрепанный коренастый субъект. Арапов продолжал беседу с Ярошиньским, а Рациборский разговаривал с рыжим.
При входе Розанова Рациборский встал, пожал ему руку и потом отрекомендовал его Ярошиньскому и рыжему, назвав при этом рыжего Петром Николаевичем Бычковым, а Розанова – приятелем Арапова.
При вторичном представлении Розанова Ярошиньскому поляк держал себя так, как будто он до сих пор ни разу нигде его не видел.
Не успел Розанов занять место в укромной гостиной, как в зале послышался веселый, громкий говор, и вслед за тем в гостиную вошли три человека: блондин и брюнет, которых мы видели в зале, и Пархоменко.
Пархоменко был черномазенький хлопчик, лет весьма молодых, с широкими скулами, непропорционально узким лбом и еще более непропорционально узким подбородком, на котором, по вычислению приятелей, с одной стороны росло семнадцать коротеньких волосинок, а с другой – двадцать четыре. Держал себя Пархоменко весьма развязным и весьма нескладным развихляем, питал национальное предубеждение против носовых платков и в силу того беспрестанно дергал левою щекою и носом, а в минуты размышления с особенным тщанием и ловкостью выдавливал пальцем свой правый глаз. Лиза нимало не ошиблась, назвав его «дурачком» после меревского бала, на котором Пархоменко впервые показался в нашем романе. Пархоменко был так себе, шальной, дурашливый петербургский хохлик, что называется «безглуздая ледащица».
При входе Пархоменки опять началась рекомендация.
– Прохор Матвеевич Пархоменко, – сказал Рациборский, представив его разом всей компании, и потом поочередно назвал ему Ярошиньского и Розанова.
– А мы давно знакомы! – воскликнул Пархоменко при имени Розанова и протянул ему по-приятельски руку.
– Где же вы были знакомы?
– Мы познакомились нынешним летом в провинции, когда я ездил с Райнером.
– Так и вы, Райнер, старые знакомые с доктором?
– Да, я мельком видел господина Розанова и, виноват, не узнал его с первого раза, – отвечал Райнер.
Рациборский познакомил Розанова с блондином и брюнетом. Брюнета он назвал Петром Сергеевичем Белоярцевым, а блондина Иваном Семеновичем Завулоновым.
«Так и есть, что из семиовчинных утроб», – подумал Розанов, принимая крохотную, костлявую ручку серенького Завулонова, который тотчас же крякнул, зашелестил ладонью по своей желтенькой гривке и, взяв за локоть Белоярцева, потянул его опять в залу.
– Ну, что, Пархом удобоносительный, что нового? – спросил шутливо Арапов Пархоменку.
Пархоменко, значительно улыбнувшись, вытащил из кармана несколько вчетверо свернутых листиков печатной бумаги, ударил ими шутя по голове Арапова и сказал:
– Семь дней всего как из Лондона.
– Что это: «Колокол»?
– А то что ж еще? – с улыбкою ответил Пархоменко и, сев с некоторою, так сказать, либеральною важностию на кресло, тотчас же засунул указательный палец правой руки в глаз и выпятил его из орбиты.
Арапов стал читать новый нумер лондонского журнала и прочел его от первой строчки до последней. Все слушали, кроме Белоярцева и Завулонова, которые, разговаривая между собою полушепотом, продолжали по-прежнему ходить по зале.
Начался либеральный разговор, в котором Ярошиньский мастерски облагал сомнениями всякую мысль о возможности революционного успеха, оставляя, однако, всегда незагороженным один какой-нибудь выход. Но зато выход этот после высказанных сомнений Ярошиньского во всем прочем незаметно становился таким ясным, что Арапов и Бычков вне себя хватались за него и начинали именно его отстаивать, уносясь, однако, каждый раз опрометчиво далее, чем следовало, и открывая вновь другие слабые стороны. Ярошиньский неподражаемо мягко брал их за эти нагие бока и, слегка пощекочивая своим скептицизмом, начал обоих разом доводить до некоторого бешенства.
– Все так, все так, – сказал он, наконец, после двухчасового спора, в котором никто не принимал участия, кроме его, Бычкова и Арапова, – только шкода людей, да и нима людей. Что ж эта газета, этиих мыслйй еще никто в России не понимает.
– Что! что! Этих мыслей мы не понимаем? – закричал Бычков, давно уже оравший во всю глотку. – Это мысль наша родная; мы с ней родились; ее сосали в материнском молоке. У нас правда по закону свята, принесли ту правду наши деды через три реки на нашу землю. Еще Гагстгаузен это видел в нашем народе. Вы думаете там, в Польше, что он нам образец?.. Он нам тьфу! – Бычков плюнул и добавил: – вот что это он нам теперь значит.
Ярошиньский тихо и внимательно глядел молча на Бычкова, как будто видя его насквозь и только соображая, как идут и чем смазаны в нем разные, то без пардона бегущие, то заскакивающие колесца и пружинки; а Бычков входил все в больший азарт.
Так прошло еще с час. Говорил уж решительно один Бычков; даже араповским словам не было места.
«Что за черт такой!» – думал Розанов, слушая страшные угрозы Бычкова. Это не были нероновские желания Арапова полюбоваться пылающей Москвою и слушать стон и плач des boyards moskovites.[38]
Араповские стремления были нежнейшая сантиментальность перед тем, чего желал Бычков. Этот брал шире:
– Залить кровью Россию, перерезать все, что к штанам карман пришило. Ну, пятьсот тысяч, ну, миллион, ну, пять миллионов, – говорил он. – Ну что ж такое? Пять миллионов вырезать, зато пятьдесят пять останется и будут счастливы.
– Пятьдесят пять не останется, – заметил Ярошиньский.
– Отчего так?
– Так. Вот мы, например, первые такей революции не потршебуем: не в нашем характйре. У нас зймя купиона, альбо тож унаследована. Кажден повинен удовольниться тим, цо ему пан бог дал, и благодарить его.
– Ну, это у вас… Впрочем, что ж: отделяйтесь. Мы вас держать не станем.
– И Литва теж такей революции не прагнет.
– И Литва пусть идет.
– И козаччина.
– И она тоже. Пусть все отделяются, кому с нами не угодно. Мы старого, какого-то мнимого права собственности признавать не станем; а кто не хочет с нами – живи сам себе. Пусть и финны, и лифляндские немцы, пусть все идут себе доживать свое право.
– Запомнил пан мордву и цыган, – заметил, улыбаясь, Ярошиньский.
– Все, все пусть идут, мы с своим народом все сделаем…
– А ваш народ собственности не любит?
Бычков несколько затруднился, но тотчас же вместо ответа сказал:
– Читайте Гагстгаузена: народ наш исповедует естественное право аграрного коммунизма. Он гнушается правом поземельной собственности.
– Правда так, панове? – спросил Ярошиньский, обратясь к Розанову, Райнеру, Барилочке, Рациборскому, Пархоменке и Арапову.
– Да, правда, – твердо ответил Арапов.
– Да, – произнес так же утвердительно и с сознанием Пархоменко.
– Мое дело – «скачи, враже, як мир каже», – шутливо сказал Барилочка, изменяя одним русским словом значение грустной пословицы: «Скачи, враже, як пан каже», выработавшейся в дни польского панованья. – А что до революции, то я и душой и телом за революцию.
Оба молодые поляка ничего не сказали, и к тому же Рациборский встал и вышел в залу, а оттуда в буфет.
– Ну, а вы, пане Розанов? – вопросил Ярошиньский.
– Для меня, право, это все ново.
– Ну, однако, як вы уважаете на то?
– Я знаю одно, что такой революции не будет. Утверждаю, что она невозможна в России.
– От чловек, так чловек! – радостно подхватил Ярошиньский: – Руссия повинна седзець и чакаць.
– А отчего-с это она невозможна? – сердито вмешался Бычков.
– Оттого, что народ не захочет ее.
– А вы знаете народ?
– Мне кажется, что знаю.
– Вы знаете его как чиновник, – ядовито заметил Пархоменко.
– А! Так бы вы и сказали: я бы с вами и спорить не стал, – отозвался Бычков. – Народ с служащими русскими не говорит, а вы послушайте, что народ говорит с нами. Вот расспросите Белоярцева или Завулонова: они ходили по России, говорили с народом и знают, что народ думает.
– Ничего, значит, народ не думает, – ответил Белоярцев, который незадолго перед этим вошел с Завулоновым и сел в гостиной, потому что в зале человек начал приготовлять закуску. – Думает теперича он, как ему что ни в самом что ни есть наилучшем виде соседа поприжать.
– По-душевному, милый человек, по-душевному, по-божинному, – подсказал в тон Белоярцеву Завулонов.
Оба они чрезвычайно искусно подражали народному говору и этими короткими фразами заставили всех рассмеяться.
– Закусить, господа, – пригласил Рациборский.
Господа проходили в залу группами и доканчивали свои разговоры.
– Конечно, мы ему за прежнее благодарны, – говорил Ярошиньскому Бычков, – но для теперешнего нашего направления он отстал; он слаб, сантиментален; слишком церемонлив. Размягчение мозга уж чувствуется… Уж такой возраст… Разумеется, мы его вызовем, но только с тем, чтобы уж он нас слушал.
– Да, – говорил Райнеру Пархоменко, – это необходимо для однообразия. Теперь в тамошних школах будут читать и в здешних. Я двум распорядителям уж роздал по четыре экземпляра «звезд» и Фейербаха на школу, а то через вас вышлю.
– Да вы еще останьтесь здесь на несколько дней.
– Не могу; то-то и есть, что не могу. Птицын пишет, чтобы я немедленно ехал: они там без меня не знают, где что пораспахано.
– Так или нет? – раболепно спрашивал, проходя в двери, Завулонов Белоярцева.
– Я постараюсь, Иван Семенович, – отвечал приятным баском Белоярцев.
– Пожалуйста, – приставал молитвенно Завулонов, – мне только бы с нею развязаться, и черт с ней совсем. А то я сейчас сяду, изображу этакую штучку в листик или в полтора. Только бы хоть двадцать пять рубликов вперед.
– Да уж я постараюсь, – отвечал Белоярцев, а Завулонов только крякнул селезнем и сделал движение, в котором было что-то говорившее: «Знаем мы, как ты, подлец, постараешься! Еще нарочно отсоветуешь».
Как только все выпили водки, Ярошиньский ударил себя в лоб ладонью и проговорил:
– О до сту дьзяблов; и запомнил потрактовать панов моей старопольской водкой; не пейте, панове, я зараз, – и Ярошиньский выбежал.
Но предостережение последовало поздно: паны уже выпили по рюмке. Однако, когда Ярошиньский появился с дорожною фляжкою в руках и с серебряною кружечкою с изображением Косцюшки, все еще попробовали и «польской старки».
Первого Ярошиньский попотчевал Розанова и обманул его, выпив сам рюмку, которую держал в руках.
Райнер и Рациборский не пили «польской старки», а все прочие, кроме Розанова, во время закуски два раза приложились к мягкой, маслянистой водке, без всякого сивушного запаха. Розанов не повторил, потому что ему показалось, будто и первая рюмка как-то уж очень сильно ударила ему в голову.
Ярошиньский выпил две рюмки и за каждою из них проглотил по маленькой сахарной лепешечке.
Он ничего не ел; жаловался на слабость старого желудка.
А гости сильно опьянели, и опьянели сразу: языки развязались и болтали вздор.
– Пейте, Райнер, – приставал Арапов.
– Я никогда не пью и не могу пить, – спокойно отвечал Райнер.
– Эх вы, немец!
– Что немец, – немец еще пьет, а он баба, – подсказал Бычков. – Немец говорит: Wer liebt nicht Wein, Weib und Gesang, der bleibt em Narr sein Leben lang![39]
Райнер покраснел.
– А пан Райнер и женщин не любит? – спросил Ярошиньский.
– И песен тоже не люблю, – ответил, мешаясь, застенчивый в подобных случаях Райнер.
– Ну да. Пословица как раз по шерсти, – заметил неспособный стесняться Бычков.
Райнера эта новая наглость бросила из краски в мертвенную бледность, но он не сказал ни слова.
Ярошиньский всех наблюдал внимательно и не давал застыть живым темам. Разговор о женщинах, вероятно, представлялся ему очень удобным, потому что он его поддерживал во время всего ужина и, начав полушутя, полусерьезно говорить об эротическом значении женщины, перешел к значению ее как матери и, наконец, как патриотки и гражданки.
Райнер весь обращался в слух и внимание, а Ярошиньский все более и более распространялся о значении женщин в истории, цитировал целые латинские места из Тацита, изобличая познания, нисколько не отвечающие званию простого офицера бывших войск польских, и, наконец, свел как-то все на необходимость женского участия во всяком прогрессивном движении страны.
– Да, у нас есть женщины, – у нас была Марфа Посадница новгородская! – воскликнул Арапов.
– А что было, то не есть и не пишется в реестр, – ответил Ярошиньский.
Между тем со стола убрали тарелки, и оставалось одно вино.
– Цели Марфы Посадницы узки, – крикнул Бычков. – Что ж, она стояла за вольности новгородские, ну и что ж такое? Что ж такое государство? – фикция. Аристократическая выдумка и ничего больше, а свобода отношений есть факт естественной жизни. Наша задача и задача наших женщин шире. Мы прежде всех разовьем свободу отношений. Какое право неразделимости? Женщина не может быть собственностью. Она родится свободною: с каких же пор она делается собственностью другого?
Розанов улыбнулся и сказал:
– Это напоминает старый анекдот из римского права: когда яблоко становится собственностью человека: когда он его сорвал, когда съел или еще позже?
– Что нам ваше римское право! – еще пренебрежительнее крикнул Бычков. – У нас свое право. Наша правда по закону свята, принесли ту правду наши деды Через три реки на нашу землю.
– У нас такое право: запер покрепче в коробью, так вот и мое, – произнес Завулонов.
– Мы брак долой.
– Так зачем же наши женщины замуж идут? – спросил Ярошиньский.
– Оттого, что еще неурядица пока во всем стоит; а устроим общественное воспитание детей, и будут свободные отношения.
– Маткам шкода будет детей покидать.
– Это вздор: родительская любовь предрассудок – и только. Связь есть потребность, закон природы, а остальное должно лежать на обязанностях общества. Отца и матери, в известном смысле слова, ведь нет же в естественной жизни. Животные, вырастая, не соображают своих родословных.
У Райнера набежали на глаза слезы, и он, выйдя из-за стола, прислонился лбом к окну в гостиной.
– У женщины, с которой я живу, есть ребенок, но что это до меня касается?..
Становилось уж не одному Райнеру гадко.
Ярошиньский встал, взял из-за угла очень хорошую гитару Рациборского и, сыграв несколько аккордов, запел:
Kwarta da polkwarty,
То poltory kwarty,
A jeszcze polkwarty,
To bedzie dwie kwarty.
О la! о la!
To bedzie dwie kwarty.[40]
Белоярцев и Завулонов вполголоса попробовали подтянуть refrain.[41]
Ярошиньский сыграл маленькую вариацийку и продолжал:
Terazniejsze chlopcy,
То со wietrzne mlyny,
Lataja od jednei
Do drugiej dziewczyny.
О la! о la!
Do drugiej dziewczyny.[42]
Белоярцев и Завулонов хватили:
О ля! о ля!
До другой девчины.
Песенка пропета.
Ярошиньский заиграл другую и запел:
Wypil Kuba,
Do Jakoba,
Pawel do Michala
Cupu, lupy,
Lupu, cupu,
Kompanja cala.[43]
– Нуте, российскую, – попросил Ярошиньский.
Белоярцев взял гитару и заиграл «Ночь осеннюю».
Спели хором.
– Вот еще, як это поется: «Ты помнишь ли, товарищ славы бранной!» – спросил Ярошиньский.
– Э, нет, черт с ними, эти патриотические гимны! – возразил опьяневший Бычков и запел, пародируя известную арию из оперы Глинки:
Славься, свобода и честный наш труд!
– О, сильные эти российские спевы! Поментаю, як их поют на Волге, – проговорил Ярошиньский.
Гитара заныла, застонала в руках Белоярцева каким-то широким, разметистым стоном, а Завулонов, зажав рукою ухо, запел:
Эх, что ж вы, ребята, призауныли;
Иль у вас, ребята, денег нету?
Арапов и Бычков были вне себя от восторга.
Арапов мычал, а Бычков выбивал такт и при последних стихах запел вразлад:
Разводите, братцы, огонь пожарчее,
Кладите в огонь вы мого дядю с теткой.
Тут-то дядя скажет: «денег много»;
А тетушка скажет: «сметы нету».
У Бычкова даже рот до ушей растянулся от удовольствия, возбужденного словами песни. Выражение его рыжей физиономии до отвращения верно напоминало морду борзой собаки, лижущей в окровавленные уста молодую лань, загнанную и загрызенную ради бесчеловечной человеческой потехи.
Русская публика становилась очень пьяна: хозяин и Ярошиньский пили мало; Слабодзиньский пил, но молчал, а Розанов почти ничего не пил. У него все ужасно кружилась голова от рюмки польской старки.
Белоярцев начал скоромить.
Он сделал гримасу и запел несколько в нос солдатским отхватом:
Ты куды, куды, еж, ползешь?
Ты куды, куды, собачий сын, идешь?
Я иду, иду на барский двор,
К Акулини Степановне,
К Лизавети Богдановне.
– «Стук, стук у ворот», – произнес театрально Завулонов.
– «Кто там?» – спросил Белоярцев.
Завулонов отвечал:
– «Еж».
– «Куда, еж, ползешь?»
– «Попить, погулять, с красными девушками поиграть».
– «Много ли денег несешь?»
– «Грош».
– «Ступай к черту, не гож».
Пьяный хор подхватил припевом, в котором «еж» жаловался на жестокость красных девушек, старух и молодушек.
Это была такая грязь, такое сало, такой цинизм и насмешка над чувством, что даже Розанов не утерпел, встал и подошел к Райнеру.
Через несколько минут к ним подошел Ярошиньский.
– Какое знание народности! – сказал он по-французски, восхищаясь удалью певцов.
– Только на что оно употребляется, это знание, – ответил Розанов.
– Ну, молодежь… Что ее осуждать строго, – проговорил снисходительно Ярошиньский.
А певцы все пели одну гадость за другою и потом вдруг заспорили. Вспоминали разные женские и мужские имена, делали из них грязнейшие комбинации и, наконец, остановясь на одной из таких пошлых и совершенно нелепых комбинаций, разделились на голоса. Одни утверждали, что да, а другие, что нет.
На сцене было имя маркизы: Розанов, Ярошиньский и Райнер это хорошо слышали.
– Что там спорить, – воскликнул Белоярцев: – дело всем известное, коли про то уж песня поется; из песни слова не выкинешь, – и, дернув рукою по струнам гитары, Белоярцев запел в голос «Ивушки»:
Ты Баралиха, Баралиха,
Шальная голова,
Что ж ты, Баралиха,
Невесела сидишь?
– Что ж ты, Баралиха,
Невесела сидишь? —
подхватывал хор и, продолжая пародию, пропел подлейшее предположение о причинах невеселого сиденья «Баралихи».
Розанов пожал плечами и сказал:
– Это уж из рук вон подло.
Но Райнер совсем не совладел собой. Бледный, дрожа всем телом, со слезами, брызнувшими на щеки, он скоро вошел в залу и сказал:
– Господа, объявляю вам, что это низость.
– Что такое? – спросили остановившиеся певцы.
– Низость, это низость – ходить в дом к честной женщине и петь на ее счет такие гнусные песни. Здесь нет ее детей, и я отвечаю за нее каждому, кто еще скажет на ее счет хоть одно непристойное слово.
Вмешательством Розанова, Ярошиньского и Рациборского сцена эта прекращена без дальнейших последствий.
Райнера увели в спальню Рациборского; веселой компании откупорили новую бутылку.
Но у певцов уже не заваривалось новое веселье. Они полушепотом подтрунивали над Райнером и пробовали было запеть что-то, чтобы не изобличать своей трусости и конфуза, но уж все это не удавалось, и они стали собираться домой.
Только не могли никак уговорить идти Барилочку и Арапова. Эти упорно отказывались, говоря, что у них здесь еще дело.
Бычков, Пархоменко, Слободзиньский, Белоярцев и Завулонов стали прощаться.
– Вы не сердитесь, Райнер, – увещательно сказал Белоярцев.
– Я и не сердился, – отвечал тот вежливо.
– То-то, это ведь смешно.
– Ну, это мое дело, – проговорил Райнер, высвобождая слегка свою руку из руки Белоярцева.
Переходя через залу, компания застала Арапова и Барилочку за музыкальными занятиями.
Барилочка щипал без толку гитару и пел:
Попереду иде Согайдачный,
Що проминяв жинку
На тютюн да люльку,
Необачный.
А Арапов дурел:
Славься, свобода и честный наш труд!
Как их ни звали, чем ни соблазняли «в ночной тишине», – «дело есть», – отвечал коротко Арапов и опять, хлопнув себя ладонями по коленям, задувал:
Славься, свобода и честный наш труд!
А Барилочка в ответ на приглашение махал головой и ревел:
Эй, вирныся, Согайдачный,
Возьми свою жинку,
Подай мою люльку,
Необачный.
Бычков пошел просить Розанова, чтобы он взял Арапова.
Когда он вошел в спальню Рациборского, Райнер и Розанов уже прощались.
– Вот то-то я и мувю, – говорил Ярошиньский, держа в своей руке руку Розанова.
– Да. Надо ждать; все же теперь не то, что было. «Сила есть и в терпенье». Надо испытать все мирные средства, а не подводить народ под страдания.
– Так, так, – утверждал Ярошиньский.
– По крайней мере верно, что задача не в том, чтобы мстить, – тихо сказал Райнер.
– Народ и не помышляет ни о каких революциях.
– Так, так, – хлопы всегда хлопы.
– Нет, не то, а они благодарны теперь, – вот что.
– Так, так, – опять подтвердил Ярошиньский, – як это от разу видать, что пан Розанов знает свою краину.
– К черту этакое знание! – крикнул Бычков. – Народ нужно знать по его духу, а в вицмундире его не узнают.
Райнер и Розанов пошли вон, ничего не отвечая на эту выходку.
– Ой, шкода людей, шкода таких отважных людей, як вы – говорил Ярошиньский, идучи сзади их с Бычковым. – Цалый край еще дикий.
– Мы на то идем, – отвечал Бычков. – Отомстим за вековое порабощение и ляжем.
– Жалэю вас, вельми жалэю.
– На наше место вырастет поколение: мы удобрим ему почву, мы польем ее кровью, – яростно сказал Бычков и захохотал.
Ярошиньский только пожал ему сочувственно руку.
Прощаясь, гости спрашивали Ярошиньского, увидятся ли они с ним снова.
– Я мыслю, я мыслю, – это як мой племянник. Як не выгонит, так я поседю еще дней кильки. Do jutra,[44] – сказал он, прощаясь с Слободзиньским.
– Do jutra, – ответил Слободзиньский, и компания, топоча и шумя, вышла на улицу.
У ворот дома капитанши Давыдовской компания приглашала Розанова и Арапова ехать провести повеселее ночку.
Розанов наотрез отказался, а Райнера и не просили.
– Отчего вы не едете? – приставал Арапов к Розанову.
– Полноте, у меня есть семья.
– Что ж такое, семья? И у Белоярцева есть жена, и у Барилочки есть жена и дети, да ведь едут же.
– А я не поеду – устал и завтра буду работать.
Компания села. Суетившийся Завулонов занял у Розанова три рубля и тоже поехал.
По улице раздавался пьяный голос Барилочки, кричавшего:
Мени с жинкою не возыться,
А тютюн да люлька
Казаку в дорози
Знадобится.
Чтоб отвязаться от веселого товарищества, Райнер зашел ночевать к Розанову, в кабинет Нечая.
Некуда. Книга первая. В провинции.
Главы: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31
Книга вторая. В Москве.
Главы: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
Книга третья. На Невских берегах.
Главы: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 |