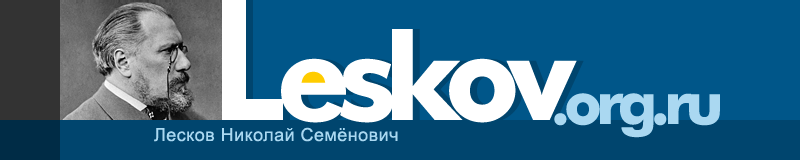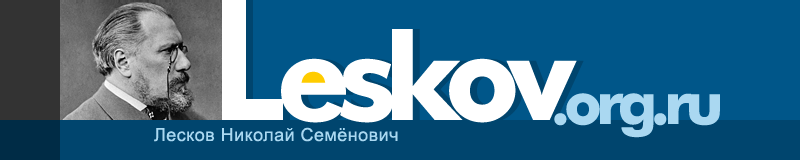|
Некуда.
Книга вторая. В Москве.
Глава тридцатая. Ночь в москве, ночь над рекой Саванкой и ночь в «Италии».
Некуда. Книга первая. В провинции.
Главы: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31
Книга вторая. В Москве.
Главы: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
Книга третья. На Невских берегах.
Главы: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25
1
Я видел мать, только что проводившую в рекруты единственного сына, и видел кошку, возвращавшуюся в дом хозяина, закинувшего ее котят.
Мой дед был птичный охотник. Я спал у него в большой низенькой комнате, где висели соловьи. Наши соловьи признаются лучшими в целой России. Соловьи других мест не умеют так хорошо петь о любви, о разлуке и обо всем, о чем сложена соловьиная песня.
Комната, в которой я спал с соловьями, выходила окнами в старый плодовитый сад, заросший густым вишенником, крыжовником и смородиною.
В хорошие ночи я спал в этой комнате с открытыми окнами, и в одну такую ночь в этой комнате произошел бунт, имевший весьма печальные последствия.
Один соловей проснулся, ударился о зеленый коленкоровый подбой клетки и затем начал неистово метаться. За одним поднялись все, и начался бунт. Дед был в ужасе.
– Ему приснилось, что он на воле, и он умрет от этого, – говорил дед, указывая на клетку начавшего бунт соловья.
Птицы нещадно метались, и к утру три из них были мертвы. Я смотрел, как околевал соловей, которому приснилось, что он может лететь, куда ему хочется.
Он не мог держаться на жердочке, и его круглые черные глазки беспрестанно закрывались, но он будил сам себя и до последнего зевка дергал ослабевшими крыльями.
У красивой, сильной львицы, сидящей в Jardin des plantes[64] в Париже, раннею весною прошлого года родился львенок. Я не знаю, как его взяли от матери, но я его увидел первый раз, должно быть, так в конце февраля; он тогда лежал на крылечке большой галереи и грелся. Это была красивая грациозная крошка, и перед нею стояла куча всякого народа и особенно женщин. Львенок был привязан только на тоненькой цепочке и, катаясь по крылечку, обтирал свою мордочку бархатною лапкою, за которую его тормошили хорошенькие лапочки парижских львиц в лайковых перчатках.
Это было запрещено, и это всем очень нравилось.
Одна маленькая ручка очень надоела львенку, и он тряхнул головенкою, издал короткий звук, на который тотчас же раздался страшный рев.
В ту же минуту несколько служителей бросились к наружной части галереи и заставили отделение львицы широкими черными досками, а сзади в этом отделении послышались скрип и стук железной кочерги по железным полосам. Вскоре неистовый рев сменило тихое, глухое рычание.
Я дождался, пока снова отняли доски от клетки львицы. Львица казалась спокойною. Прижавшись в заднем углу, она лежала, пригнув голову к лапам; она только вздыхала и, не двигаясь ни одним членом, тревожно бросала во все стороны взоры, исполненные в одно и то же время и гордости и отчаянья.
Львенка увели с крыльца, и толпа, напутствуемая энергическими замечаниями служителей, разошлась. Перед галереей проходил служитель в синей куртке и робеспьеровском колпаке из красного сукна.
Этот человек по виду не был так сердит, как его товарищи, и я подошел к нему.
– Monsieur,[65] – спросил я, – сделайте милость, скажите, что это сделалось с львицей?
– Tiens? – отвечал француз, – elle reve qu'elle est libre.[66]
Я еще подошел к клетке и долго смотрел сквозь железные полосы в страшные глаза львицы. Она хотела защитить свое дитя, и, поняв, что это для нее невозможно, она была велика в своем грозном молчании.
Егор Николаевич Бахарев теперь как-то напоминал собою всех: и мать, проводившую сына в рекруты, и кошку, возвращающуюся после поиска утопленных котят, и соловья, вспомнившего о минувших днях короткого счастия, и львицу, смирившуюся в железной клетке.
Возвратясь домой, он все молчал. До самого вечера он ни с кем не сказал ни слова.
– Что с тобою, Егор Николаевич? – спрашивала его Ольга Сергеевна.
Он только махал рукою. Не грозно махал, а как-то так, что, мол, «сил моих нет: отвяжитесь от меня ради создателя».
В сумерки он прилег на диване в гостиной и задремал.
– Тсс! – командовала по задним комнатам Абрамовна. – Успокоился барин, не шумите.
Барин, точно, чуть не успокоился. Когда Ольга Сергеевна пришла со свечою, чтобы побудить его к чаю, он лежал с открытыми глазами, давал знак одною рукою и лепетал какой-то совершенно непонятный вздор заплетающимся языком.
В доме начался ад. Людей разослали за докторами. Ольга Сергеевна то выла, то обмирала, то целовала мужнины руки, согревая их своим дыханием. Остальные все зауряд потеряли головы и суетились. По дому только слышалось: «барина в гостиной паралич ударил», «переставляется барин».
Каждый посланец нашел по доктору, и через час Егора Николаевича, выдержавшего лошадиное кровопускание, отнесли в его спальню.
К полуночи один доктор заехал еще раз навестить больного; посмотрел на часы, пощупал пульс, велел аккуратно переменять компрессы на голову и уехал.
Старик тяжело дышал и не смотрел глазами.
С Ольгой Сергеевной в гостиной поминутно делались дурноты; ее оттирали одеколоном и давали нюхать спирт.
Софи ходила скорыми шагами и ломала руки.
К трем часам Бахареву не было лучше, ни крошечки лучше.
Абрамовна вышла из его комнаты с белым салатником, в котором растаял весь лед, приготовленный для компрессов. Возвращаясь с новым льдом через гостиную, она подошла к столу и задула догоравшую свечу. Свет был здесь не нужен. Он только мог мешать крепкому сну Ольги Сергеевны и Софи, приютившихся в теплых уголках мягкого плюшевого дивана.
Абрамовна опять уселась у изголовья больного и опять принялась за свою фельдшерскую работу.
Старческая кожа была не довольно чутка к температурным изменениям. Абрамовна положила один очень холодный компресс, от которого больной поморщился и, открыв глаза, остановил их на старухе.
– Что, батюшка? – прошептала с ласковым участием Абрамовна.
Больной только тяжко дышал.
– Трудно тебе? – спросила она, продолжая глядеть в те же глаза через полчаса.
Старик кивнул головою: дескать «трудно».
– Где она? – пролепетал он через несколько минут, однако так невнятно, что ничего нельзя было разобрать.
– Что, батюшка, говоришь? – спросила Абрамовна.
– Где она? – с большим напряжением и расстановкою произнес явственнее Бахарев.
– Кто, родной мой? О ком ты спрашиваешь?
– О Лизе, – с тем же усилием и расстановкою выговорил Егор Николаевич.
Старуха хотела отмолчаться и стала выжимать смоченный компресс.
– Она умерла? – устремив глаза, спрашивал Бахарев.
– Нет, батюшка, Христос, царь небесный, с нею: она жива. Уехала. Вы, батюшка, успокойтесь; она вернется. Не тревожь себя, родной, понапрасну.
– У-е-х-а-л… – опять совсем уже невнятно прошептал больной.
Он как будто впал в забытье; но через четверть часа опять широко раскрыл глаза и скоро-скоро, как бы боясь, что ему не будет время высказать свое слово, залепетал:
– Я полковник, я старик, я израненный старик. Меня все знают… мои ордена… мои раны… она дочь моя… Где она? Где о-н-а? – произнес он, тупея до совершенной невнятности. – Од-н-а!.. р-а-з-в-р-а-т… Разбойники! не обижайте меня; отдайте мне мою дочь, – выговорил он вдруг с усилием, но довольно твердо и заплакал.
Серый свет зарождающегося утра заглянул из-за спущенных штор в комнату больного, но был еще слишком слаб и робок для того, чтобы сконфузить мигавшую под зеленым абажуром свечу. Бахарев снова лежал спокойно, а Абрамовна, опершись рукою о кресло, тихо, усыпляющим тоном, ворчала ему:
– Иная, батюшка, и при отце с матерью живет, да ведет себя так, что за стыд головушка гинет, а другая и сама по себе, да чиста и перед людьми и перед Господом. На это взирать нечего. К чистому поганое не пристанет.
– Ты по-ез-жай, – прошептал старик.
Старуха промолчала.
– Возь-ми де-нег и по-ез-жай, – повторял больной.
– Хорошо, сударь, поеду.
– Ддда, поезжай… а куда?
Старуха зачесала головной платок.
– К-у-д-а? – повторил больной.
Старуха пожала плечами и пошла потушить свечу. Тяжелая ночь прошла, и наступило еще более тяжелое утро.
Недавно публика любовалась картинкою, помещенною в одном из остроумных сатирических изданий. Рисунок изображал отца, у которого дочь ушла. Отец был изображен на этом рисунке с ослиными ушами.
Мы сомневаемся, что художник сам видел когда-нибудь отца, у которого ушла дочь. Художественная правда не позволила бы заглушить себя гражданской тенденции и заставила бы его, кроме ослиных ушей, увидать и отцовское сердце.
2
Во флигеле Гловацких ничего нельзя было узнать. Комнаты были ярко освещены и набиты различными гостями; под окнами стояла и мерзла толпа мещан и мещанок, кабинет Петра Лукича вовсе исчез из дома, а к девственной кроватке Женни была смело и твердо приставлена другая кровать.
Полтора часа назад Женни перевенчали с Николаем Степановичем Вязмитиновым, занявшим должность штатного смотрителя вместо Петра Лукича, который выслужил полный пенсион и получил отставку.
Сегодня в четыре часа после обеда Петр Лукич отправил в дом покойной жены свой ветхий гардероб и книги. Сегодня же он проведет первую ночь вне училищного флигеля, уступая новому смотрителю вместе с местом и свою радость, свою красавицу Женни.
Между гостями, наполняющими флигель уездного училища, мы прежде всех узнаем Петра Лукича. Он постарел еще более, голова его совсем бела, и длинная фигура несколько горбится; он и весел, и озабочен, и задумчив. Потом на почетном месте сидит посаженый отец жениха, наш давний знакомый, Алексей Павлович Зарницын. Он пополнел, и в лице его много важности и самоуверенности. Он ораторствует и заставляет всех себя слушать. К нему часто подходит и благопристойно его ласкает немолодая, но еще очень красивая и изящная дама. Это Катерина Ивановна, бывшая вдова Кожухова (ныне madame Зарницына), владетельница богатого села Коробина. Она одета по-бальному, роскошно и несколько молодо; но этот наряд никому не бросается в глаза. Он даже заставляет всех чувствовать, что хотя сама невеста здесь, без сомнения, есть самая красивая женщина, но и эта барыня совсем не вздор в наш век болезненный и хилый. Катерина Ивановна здесь едва ли не самое видное лицо: она всем распоряжается, и на всем лежит ее инициатива. Благодаря ей пир великолепен и роскошен. Петр Лукич сам не знает, откуда у него что берется. Саренко, в высочайшем жабо, тоже здесь с своею Лурлеей и с половиной в желтой шали. Он сочиняет приличные, по его мнению, настоящему торжеству пошлости и, разглаживая по голове свой хвост, ищет случая их незаметнее высказать новобрачной паре.
О новобрачной паре говорят разно. Женни утомлена и задумчива. Мужчины находят ее красавицей, женщины говорят, что она тонирует. Из дам ласковее всех к ней madame Зарницына, и Женни это чувствует, но она действительно чересчур рассеянна; ей припоминается и Лиза, и лицо, отсутствие которого здесь в настоящую минуту очень заметно. Женни думает об умершей матери.
Вязмитинов нехорош. Ему не идет белый галстук с белым жилетом. Вырезаясь из черного фрака, они неприятно оттеняют гладко выбритое лицо и делают Вязмитинова как будто совсем без груди. Он сосредоточен и часто моргает.
Вообще он всегда был несравненно лучше, чем сегодня.
В кучках гостей мужчины толкуют, что Вязмитинову будет трудно с женою на этом месте; что Алексей Павлович Зарницын пристроился гораздо умнее и что Катерина Ивановна не в эти выборы, так в другие непременно выведет его в предводители.
– А тут что? – добавляли к этим рассуждениям. – Любовь! Любовь, батюшка, – морковь: полежит и завянет.
– Она премилая девушка! – замечали девицы.
– Что, сударыня, милая! – возражала жена Саренки. – С лица-то не воду пить, а жизнь пережить – не поле перейти.
Из посторонних людей не злоязычили втихомолку только Зарницын с женою. Первому было некогда, да он и не был злым человеком, а жена его не имела никаких оснований в чем бы то ни было завидовать Женни и искренно желала ей добра в ее скромной доле.
Самое преданное Женни женское сердце не входило в пиршественные покои. Это сердце билось в груди сестры Феоктисты.
Еще при первом слухе о помолвке Женни мать Агния запретила Петру Лукичу готовить что бы то ни было к свадебному наряду дочери.
– Оставь это, батюшка, мне. Я хочу вместо матери сама все приготовить для Геши, и ты не вправе мне в этом препятствовать.
Петр Лукич и не препятствовал.
Вечером, под самый день свадьбы, из губернского города приехала сестра Феоктиста с длинным ящиком, до крайности стеснявшим ее на монастырских санях.
В ящике, который привезла сестра Феоктиста, было целое приданое. Тут лежал великолепный подвенечный убор: платье, девичья фата, гирлянда и даже белые атласные ботинки. Далее, здесь были четыре атласные розовые чехла на подушки с пышнейшими оборками, два великолепно выстеганные атласные одеяла, вышитая кофта, ночной чепец, маленькие женские туфли, вышитые золотом по масаковому бархату, и мужские туфли, вышитые золотом по черной замше, ковер под ноги и синий атласный халат на мягкой тафтяной подкладке, тоже с вышивками и с шнурками. Игуменья по-матерински справила к венцу Женни. Даже между двух образов, которыми благословили новобрачных, стоял оригинальный образ св. Иулиании, княжны Ольшанской. Образ этот был в дорогой золотой ризе, не кованой, но шитой, с несколькими яхонтами и изумрудами. А на фиолетовом бархате, покрывавшем заднюю часть доски, золотом же было вышито: «Сим образом св. девственницы, княжны Иулиании, благословила на брак Евгению Петровну Вязмитинову настоятельница Введенского Богородицкого девичьего монастыря смиренная инокиня Агния».
В брачный вечер Женни все эти вещи были распределены по местам, и Феоктиста, похаживая по спальне, то оправляла оборки подушек, то осматривала кофту, то передвигала мужские и женские туфли новобрачных.
В два часа ночи Катерина Ивановна Зарницына вошла в эту спальню и открыла одеяла кроватей. Вслед за тем она вышла и ввела сюда за руку Женни.
В доме уже никого не было посторонних.
Последний, крестясь и перхая, вышел Петр Лукич. Теперь и он был здесь лишний.
Катерина Ивановна и Феоктиста раздели молодую и накинули на нее белый пеньюар, вышитый собственными руками игуменьи.
Феоктиста надела на ноги Женни туфли.
Женни дрожала и безмолвно исполняла все, что ей говорили.
Облаченная во все белое, она от усталости и волнения робко присела на край кровати.
– Помолитесь Заступнице, – шепнула ей Феоктиста.
Женни стала на колени и перекрестилась. Свечи погасли, и осталась одна лампада перед образами.
– Молитесь ей, да ниспошлет она вам брак честен и соблюдет ложе ваше нескверно, – опять учила Феоктиста, стоя в своей черной рясе над белою фигурою Женни.
Женни молилась.
Из бывшего кабинета Гловацкого Катерина Ивановна ввела за руку Вязмитинова в синем атласном халате.
Феоктиста нагнулась к голове Женни, поцеловала ее в темя и вышла.
Женни еще жарче молилась.
Катерина Ивановна тоже вышла и села с Феоктистой в свою карету.
Дальше мы не имеем права оставаться в этой комнате.
3
Поднимаем третью завесу.
Слуга взнес за Бертольди и Лизою их вещи в третий этаж, получил плату для кучера и вышел.
Лиза осмотрелась в маленькой комнатке с довольно грязною обстановкою.
Здесь был пружинный диван, два кресла, четыре стула, комод и полинялая драпировка, за которою стояла женская кровать и разбитый по всем пазам умывальный столик.
Лакей подал спрошенный у него Бертольди чай, повесил за драпировку чистое полотенце, чего-то поглазел на приехавших барышень, спросил их паспорты и вышел.
Лиза как вошла – села на диван и не трогалась с места. Эта обстановка была для нее совершенно нова: она еще никогда не находилась в подобном положении.
Бертольди налила две чашки чаю и подала одну Лизе, а другую выпила сама и непосредственно затем налила другую.
– Пейте, Бахарева, – сказала она, показывая на чашку.
– Я выпью, – отвечала Лиза.
– Что вы, повесили нос?
– Нет, я ничего, – отвечала Лиза и, вставши, подошла к окну.
Улица была ярко освещена газом, по тротуарам мелькали прохожие, посередине неслись большие и маленькие экипажи.
Допив свой чай, Бертольди взялась за бурнус и сказала:
– Ну, вы сидите тут, а я отправлюсь, разыщу кого-нибудь из наших и сейчас буду назад.
– Пожалуйста, поскорее возвращайтесь, – проговорила Лиза.
– Вы боитесь?
– Нет… а так, неприятно здесь одной.
– Романтичка!
– Это вовсе не романтизм, а кто знает, какие тут.
– Что ж они вам могут сделать? Вы тогда закричите.
– Очень приятно кричать.
– Да это в таком случае, если бы что случилось.
– Нет, лучше пусть ничего не случается, а вы возвращайтесь-ка поскорее. Тут есть в двери ключ?
– Непременно.
– Вы посмотрите, запирает ли он?
– Запирает, разумеется.
– Ну попробуйте.
Бертольди повернула в замке ключ, произнесла: «факт», и вышла за двери.
Лиза встала и заперлась.
Инстинктивно она выпила остывшую чашку чаю и начала ходить взад и вперед по комнате.
Комната была длиною в двенадцать шагов.
Долго ходила Лиза.
На улице движение становилось заметно тише, прошел час, другой и третий. Бертольди не возвращалась.
Кто-то постучал в двери.
Лиза остановилась.
Стук повторился.
– Что здесь нужно? – спросила Лиза через двери.
– Прибор.
– Какой прибор?
– Чайный прибор принять.
– Это можно после; я не отопру теперь, – ответила Лиза и снова стала ходить взад и вперед.
Прошло еще два часа.
«Где бы это запропала Бертольди?» – подумала Лиза, зевнув и остановясь против дивана.
Она очень устала, и ей хотелось спать, но она постояла, взглянула на часы и села.
Был третий час ночи.
Теперь только Лиза заметила, что этот час в здешнем месте не считается поздним.
За боковыми дверями с обеих сторон ее комнаты шла оживленная беседа, и по коридору беспрестанно слышались то тяжелые мужские шаги, то чокающий, приятный стук женских каблучков и раздражающий шорох платьев.
Лиза до сих пор как-то не замечала этого, ожидая Бертольди; но теперь, потеряв надежду на ее возвращение, она стала прислушиваться.
– Это какие ж порядки? – говорил за левою дверью пьяный бас.
– Какие порядки! – презрительно отзывалась столь же пьяная мужская фистула.
– Типерь опять же хучь ба, скажем так, гробовщики, – начинал бас. – Что с меня, что теперь с гробовщика – одна подать, потому в одном расчислении. Что я, значит, что гробовщик, все это в одном звании: я столарь, и он столарь. Ну, порядки ж это? Как типерь кто может нашу работу супроть гробовщиков равнять. Наше дело, ты вот хоть стол, – это я так, к примеру говорю, будем располагать к примеру, что вот этот стол взялся я представить. Что ж типерь должен я с ним сделать? Должен я его типерь сперва-наперво сичас в лучшем виде отделать, потом должен его сполировать, должен в него замок врезать, или резьбу там какую сичас приставить…
– Что говорить! – взвизгнула фистула. – Выпейте-ка, Петр Семенович.
Слышно, что выпили, и бас, хрустя зубами, опять начинает:
– А гробовщик теперь что? Гробовщика мебель тленная. Он посуду покупает оптом, а тут цвяшки да бляшки, да и сто рублей. Это что? Это порядки называются?
– Что говорить, – отрицает фистула.
– Нет, я вас спрашиваю: это порядки или нет?
– Какие порядки!
– С гробовщиков-то и с столярей одну подать брать – порядки это?
– Как можно!
– А-а! Поняли типерь. Наш брат, будь я белодеревной, будь я краснодеревной, все я должен работу в своем виде сделать, а гробовщик мастер тленный. Верно я говорю или нет?
– Выпьемте, Петр Семенович.
– Нет, вы прежде объясните мне, как, верно я говорю или нет? Или неправильно я рассуждаю? А! Ну какое вы об этом имеете расположение? Пущай вы и приезжий человек, а я вот на вашу совесть пущаюсь. Ведь вы хоть и приезжий, а все же ведь вы можете же какое-нибудь рассуждение иметь.
За другою дверью, справа, шел разговор в другом роде.
– Простит, – сквозь свист и сап гнусил сильно пьяный мужчина.
– Нет, Бараков, не говори ты этого, – возражал довольно молодой, но тоже не совсем трезвый женский голос. – Нашей сестре никогда, Баранов, прощенья не будет.
– Врешь, будет.
– Нет, и не говори этого, Баранов.
– А впрочем, черт вас возьми совсем.
– Да, не говори этого, – продолжала, не расслушав, женщина.
Послышался храп.
– Баранов! – позвала женщина.
– М-м?
– Можно еще графинчик?
– Черт с тобою, пей.
Женщина отворила дверь в коридор и велела подать еще графинчик водочки.
В конце коридора стукнула дверь, и по полу зазвенела кавалерийская сабля.
– Номер! – громко крикнул голос.
Лакей побежал и заговорил что-то на ходу.
– Какая такая приезжая? – спросил голос.
– Ей-богу-с приезжая.
– Покажи нам ее!
– Нет-с, ей-богу-с, настоящая приезжая, и паспорт вон у меня на шкафе лежит.
– Врешь.
– Нет, ей-богу-с: вот посмотрите.
Лиза слышала, как развернули ее институтский диплом и прочитали вслух: «дочь полковника Егора Николаевича Бахарева, девица Елизавета Егоровна Бахарева, семнадцати лет».
– Одна? – спросил голос тише.
– Теперь одна-с, – отвечал лакей.
– Ас кем приехала?
– Тоже, должно, с подругою, да та уехала куда-то с вечера.
– Ты завтра за ней помастери.
– Слушаю-с.
– Ну, а теперь черт с тобою, давай хоть тот номер.
Мимо Лизиных дверей прошли сапоги в шпорах, сапоги без шпор и шумливое шелковое платье.
У Лизы голова ходила ходуном.
«Где я? Боже мой! Где я? Куда нас привезли!» – спрашивала она сама себя, боясь шевельнуться на диване.
А свечка уже совсем догорала.
– Так вот ты, Баранов, и сообрази, – говорил гораздо тише совсем опьяневший женский голос. – Что ж она, Жанетка, только ведь что французинка называется, а что она против меня? Тьфу, вот что она. Где ж теперь, Баранов, правда!
– Нет, вы теперь объясните мне: согласны вы, чтобы гробовщики жили на одном правиле с столярями? – приставал бас с другой стороны Лизиной комнаты. – Согласны, – так так и скажите. А я на это ни в жизнь, ни за что не согласен. Я сам доступлю к князю Суворову и к министру и скажу: так и так и извольте это дело рассудить, потому как ваша на все это есть воля. Как вам угодно, так это дело и рассудите, но только моего на это согласия никакого нет.
Огарок догорел и потух, оставив Лизу в совершенной темноте. Несколько минут все было тихо, но вдруг одна, дверь с шумом распахнулась настежь, кто-то вылетел в коридор и упал, тронувшись головою о Лизину дверь.
Лиза вскочила и бросилась к окну, но дверь устояла на замке и петлях.
В коридоре сделался шум. Отворилось еще несколько дверей. Лакей помогал подниматься человеку, упавшему к Лизиной комнате.
Потом зашелестело шелковое платье, и женский голос стал кого-то успокоивать.
– Нет, это не шутка, – возражал плачевным тоном упавший. – Он если шутит, так он должен говорить, что он это шутя делает, а не бить прямо всерьез.
– Душенька штатский, ну полноте, ну помиритесь, ну что вам из за этого обижаться, – уговаривало шелковое платье.
– Нет, я не обижаюсь, а только я после этого не хочу с ним быть в компании, если он дерется, – отвечал душенька штатский. – Согласитесь, это не всякому же может быть приятно, – добавил он и решительно отправился к выходу.
Шелковое платье вернулось в номер, щелкнуло за собою ключом, и все утихло.
Трепещущая Лиза, ни жива ни мертва, стояла, прислонясь к холодному окну.
Уличные фонари погасли, и по комнате засерелось.
Лиза еще подождала с полчаса и дернула за сальную сонетку.
Вошел заспанный коридорный в одном белье.
Лиза попросила себе самовар.
Через час явился чайный прибор, но самовара все-таки не было.
Вид растерзанного лакея в одном белье окончательно вывел Лизу из терпения.
Она мысленно решила не пить чаю, а уйти куда-нибудь отсюда, хоть походить по улице.
В этих соображениях она попросила дать ей адрес гостиницы и тихо опустилась в угол дивана.
Усталость и молодость брали свое. Лизу клонил сон.
Чтобы не заснуть, она взяла выброшенную Бертольди из сака книжку. Это было Молешотово «Учение о пище».
Лиза стала читать, ожидая, пока ей дадут адрес, без которого она, не зная города, боялась выйти на улицу.
«Ничто не подавляет до такой степени наши духовные силы, как голод. От голода голова и сердце пустеют. И хотя потребность в пище поразительно уменьшается при напряженной духовной деятельности, тем не менее ничего нет вреднее голода для спокойного мышления. Потому голодный во сто раз сильнее чувствует всякую несправедливость, и, стало быть, не прихоть породила идею в праве каждого на труд и хлеб. Мудрость и любовь требуют обсудить всякий взгляд, но мы считаем себя обязанными неотразимую убедительность фактов противопоставить той жестокой мысли, по которой право человеческое становится в зависимость от милости человеческой». – «Нельзя, нельзя мечтать, как Помада… – шепчет Лиза, откидывая от себя книгу. – Мне здесь холодно, я теперь одна, на всю жизнь одна, но бог с ними со всеми. Что в их теплоте! Они вертятся около своего вечного солнца, а мне не нужно этого солнца. Тяжело мне и пусть…» – Лиза взяла маленький английский волюмчик «The poetical works of Longfellow»[67] и прочла:
«В моей груди нет иного света, и, кроме холодного света звезд, я вверяю первую стражу ночи красной планете Марсу.
Звезда непобедимой воли, она восходит в моей груди: ясная, тихая и полная решимости, спокойная и самообладающая.
И ты также, кто бы ни был ты, читающий эту короткую песню, если одна за другой уходят твои надежды, будь полон решимости и спокоен.
Не пугайся этого ничтожного мира, и ты скоро узнаешь, какое высокое наслаждение страдать и быть крепким духом».
Лиза опять взяла Молешота, но он уже не читался, и видела Лиза сквозь опущенные веки, как по свалившемуся на пол «Учению о пище» шевелилась какая-то знакомая группа. Тут были: няня, Женни, Розанов и вдруг мартовская ночь, а не комната с сальной обстановкой. В небе поют жаворонки, Розанов говорит, что
Есть сила благодатная
В созвучье слов живых.
Потом Райнер. Где он? Он должен быть здесь… Отец клянет… Образ падает из его рук… Какая тяжкая сцена!.. «Укор невежд, укор людей»… Отец! отец!
– Бахарева! что с вами? Чего вы рыдаете во сне, – спрашивает Лизу знакомый голос.
Она подняла утомленную головку.
В комнате светло. Перед ней Бертольди развязывает шляпку, на полу «Учение о пище», у двери двое незнакомых людей снимают свои пальто, на столе потухший самовар и карточка.
– Ревякин и Прорвич, – произнесла Бертольди, торжественно показывая на высокого рыжего угреватого господина и его замурзанного черненького товарища.
Заспавшаяся Лиза ничего не могла сообразить в одно мгновение. Она закрыла рукою глаза и, открыв их снова, случайно прежде всего прочла на лежащей у самовара карточке: «В С.-Петербурге, по Караванной улице, № 7, гостиница для приезжающих с нумерами „Италия“.»
Прорвич и Ревякин протянули Лизе свои руки.
Некуда. Книга первая. В провинции.
Главы: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31
Книга вторая. В Москве.
Главы: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
Книга третья. На Невских берегах.
Главы: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 |